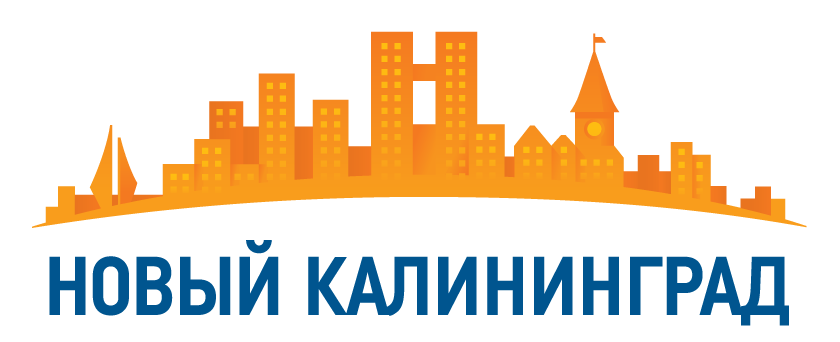«Персональная память»
Спецпроект «Нового Калининграда» о тех, о ком не писали газеты
9 Мая — день, когда вся страна вспоминает подвиг поколения, пережившего войну. Но за торжественными мероприятиями и парадами остаются миллионы личных историй — тех, кто не вернулся с фронта, кто трудился в тылу, кто пережил оккупацию. Не все из них попали в газетные заголовки, их имена не звучали в сводках Совинформбюро. Они просто делали своё дело — защищали, спасали, выживали.
В этом году редакция «Нового Калининграда» решила рассказать особенные истории — истории семей наших сотрудников. Те самые, что передаются из поколения в поколение: пожелтевшие фотографии, воспоминания, которые бережно хранят в каждой семье.
Настоящая память — это не только громкие даты и официальные церемонии. Это персональная память, которую мы обязаны сохранить.
В этом году редакция «Нового Калининграда» решила рассказать особенные истории — истории семей наших сотрудников. Те самые, что передаются из поколения в поколение: пожелтевшие фотографии, воспоминания, которые бережно хранят в каждой семье.
Настоящая память — это не только громкие даты и официальные церемонии. Это персональная память, которую мы обязаны сохранить.
Дед штурмовал Кёнигсберг
Журналист Оксана Шевченко:
— Мой дед, Мельников Владимир Васильевич, уроженец г. Полоцка Витебской области. Когда началась война, он только окончил 9 классов. Его старший брат Жора сразу ушел на фронт, а мать с тремя младшими детьми успела эвакуироваться на Урал, в Медногорск. Там уже в сентябре 1941-го юный Володя в ремесленном училище осваивает профессию токаря и работает на военном заводе, делая снаряды для фронта.
С июля 43-го — курсант 29-го учебного стрелкового полка Южно-Уральского военного округа. Затем 2-й Белорусский фронт, автоматчик, младший сержант мотострелкового батальона 68-й механизированной бригады Александрийской дивизии, командир отделения автоматчиков, а потом командир взвода разведчиков.
Рисковый, безбашенный, даже будучи раненым, отказывался покидать «передок», чтобы не отстать от своих боевых товарищей. Вскоре на груди молодого командира-разведчика уже сиял орден Красной звезды. А орден Славы он получил за бои под Мариенбургом (ныне польский Мальборк).
С июля 43-го — курсант 29-го учебного стрелкового полка Южно-Уральского военного округа. Затем 2-й Белорусский фронт, автоматчик, младший сержант мотострелкового батальона 68-й механизированной бригады Александрийской дивизии, командир отделения автоматчиков, а потом командир взвода разведчиков.
Рисковый, безбашенный, даже будучи раненым, отказывался покидать «передок», чтобы не отстать от своих боевых товарищей. Вскоре на груди молодого командира-разведчика уже сиял орден Красной звезды. А орден Славы он получил за бои под Мариенбургом (ныне польский Мальборк).
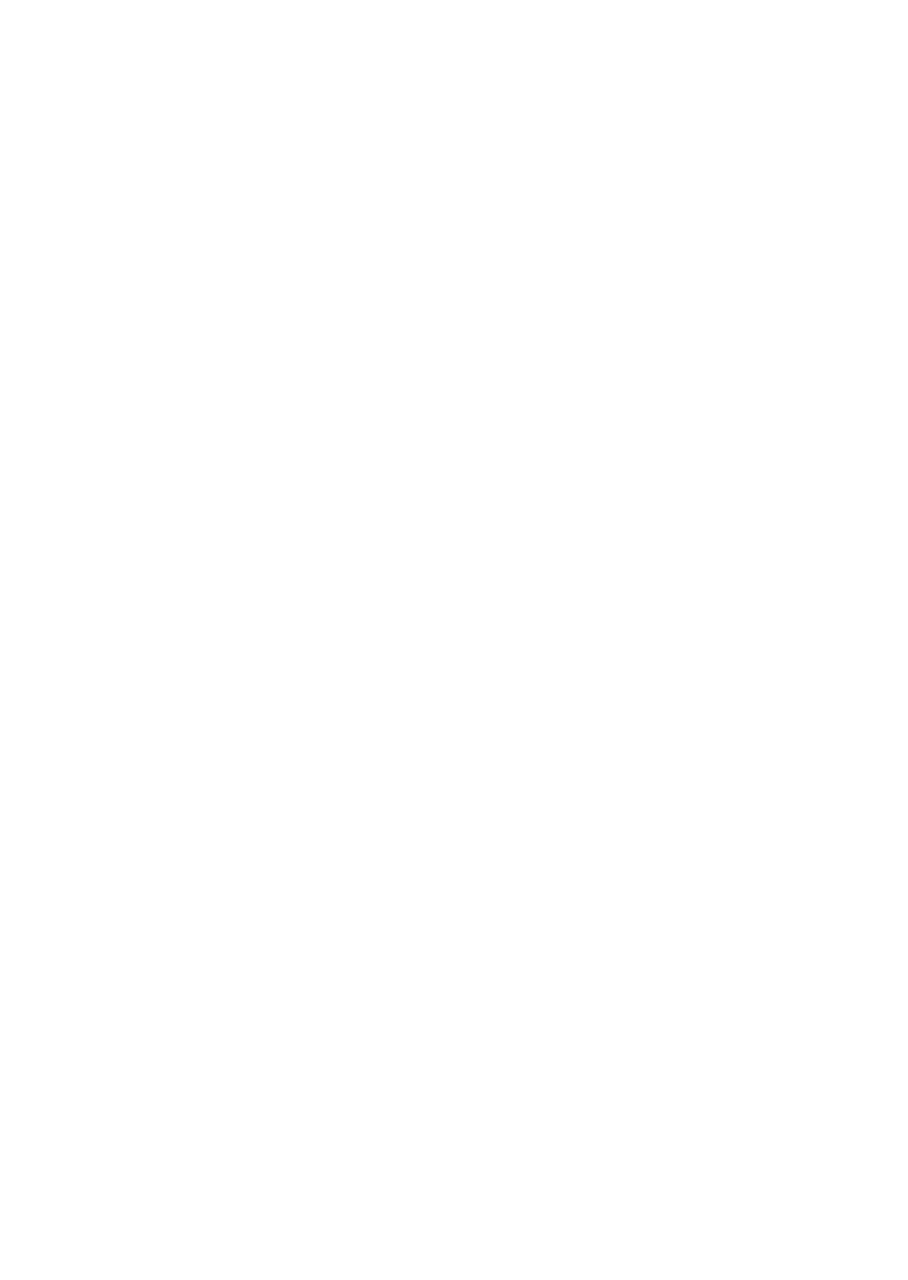
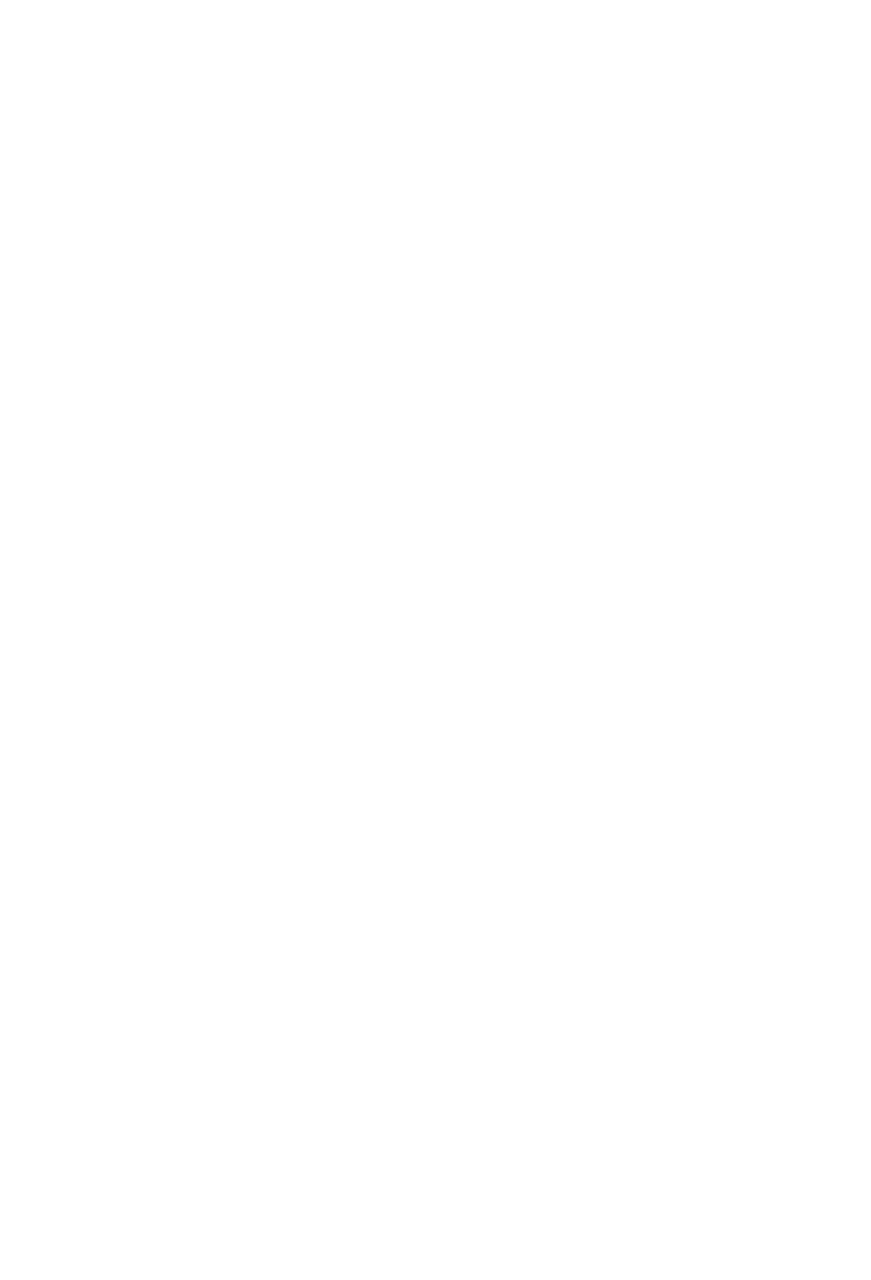
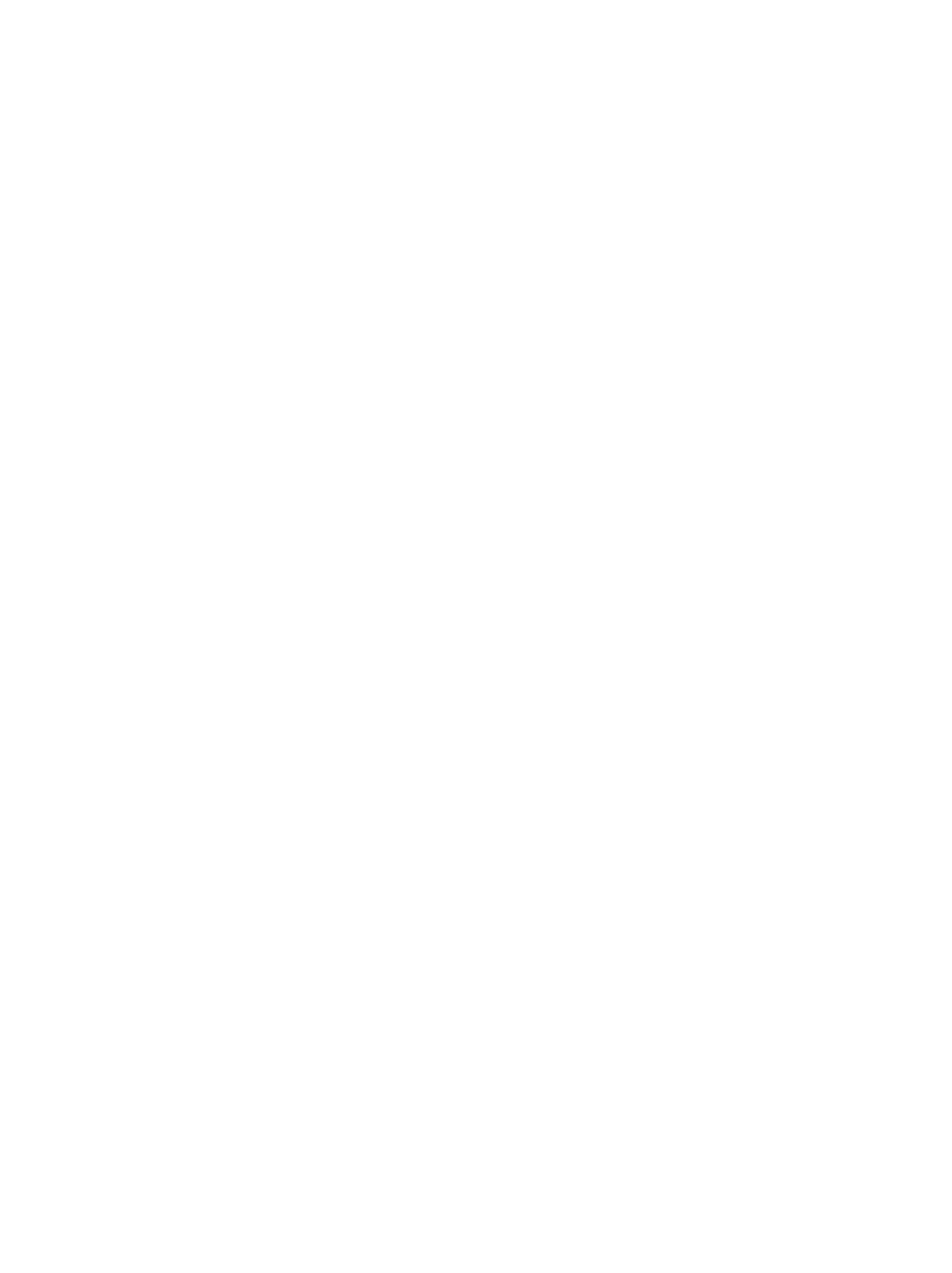
Из наградного листа:
«В боях за город Мариенбург, ведя разведку с прочесыванием домов, сержант Мельников обнаружил группу вражеских автоматчиков, засевших в домах и мешавших продвижению нашей пехоты. Нескольких он убил, был ранен в руку, но продолжал вести огонь, прикрывая своих».
Вспоминать войну дед не любил. Но однажды рассказал, как уже во время Восточно-Прусской операции чуть не погиб, нарвавшись на группу немецких солдат. Начал косить их из автомата, но его подмял под себя здоровенный фашист, и он от отчаяния вцепился немцу зубами в шею. Со слезами вспоминал, как, захлёбываясь чужой кровью, словно волчонок грыз горло амбала, чтоб спастись…
Войну окончил старшиной, взяв штурмом Кенигсберг и пройдя с пехотой Польшу, Германию. Пытался старшего разыскать брата, но тот пропал без вести в ходе Восточно-Прусской операции. Владимир вернулся в Белоруссию и после учебы в консерватории в Минске продолжил службу сначала в ансамбле Белорусского военного округа, а затем в Калининграде — в Ансамбле песни и пляски Краснознаменного Балтийского флота, где долгое время был солистом.
В память о войне и многолетней службе в Вооруженных силах — около двух десятков наград, среди которых три ордена - Славы lll степени, Красной Звезды, Отечественной войны ll степени, медали «За победу над Германией 1941-1945гг», «За взятие Кенигсберга», «За безупречную службу» всех трех степеней.
Войну окончил старшиной, взяв штурмом Кенигсберг и пройдя с пехотой Польшу, Германию. Пытался старшего разыскать брата, но тот пропал без вести в ходе Восточно-Прусской операции. Владимир вернулся в Белоруссию и после учебы в консерватории в Минске продолжил службу сначала в ансамбле Белорусского военного округа, а затем в Калининграде — в Ансамбле песни и пляски Краснознаменного Балтийского флота, где долгое время был солистом.
В память о войне и многолетней службе в Вооруженных силах — около двух десятков наград, среди которых три ордена - Славы lll степени, Красной Звезды, Отечественной войны ll степени, медали «За победу над Германией 1941-1945гг», «За взятие Кенигсберга», «За безупречную службу» всех трех степеней.
Прадед дошёл до Берлина
Журналист Оксана Майтакова:
— Моя семья родом из Сибири. Прадед по отцовской линии Миней Николаевич Мусихин — гвардии красноармеец, воевал в составе 375-й стрелковой дивизии. В декабре 1943 года он умер в госпитале. Похоронен в братской могиле в селе Золотаревка (Кировоградская область, Украина). Воевали братья бабушки и прабабушки, второй прадед по материнской линии, а дед Григорий Николаевич Майтаков участвовал в боях под Кёнигсбергом.
Дед Григорий Николаевич Майтаков был призван из деревни Большой Бор (Хакасия) в армию в 1940 году, ему было 20 лет. Служил в 26-й стрелковой дивизии в Приморском крае. Когда началась война, дивизию одной из первых с Дальнего Востока отправили на фронт. Дед прошёл всю войну, был связистом во взводе управления командующего артиллерией. Награждён медалью «За отвагу» и двумя орденами Красной звезды.
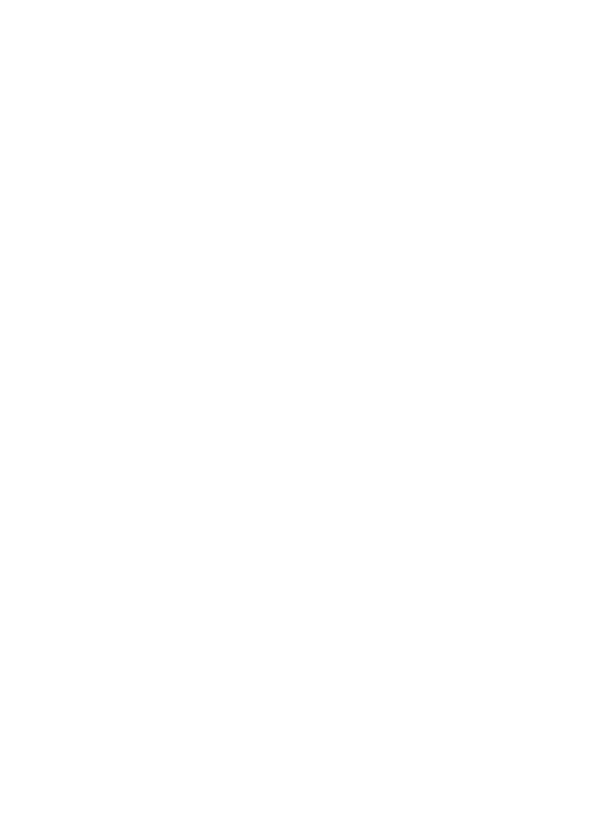
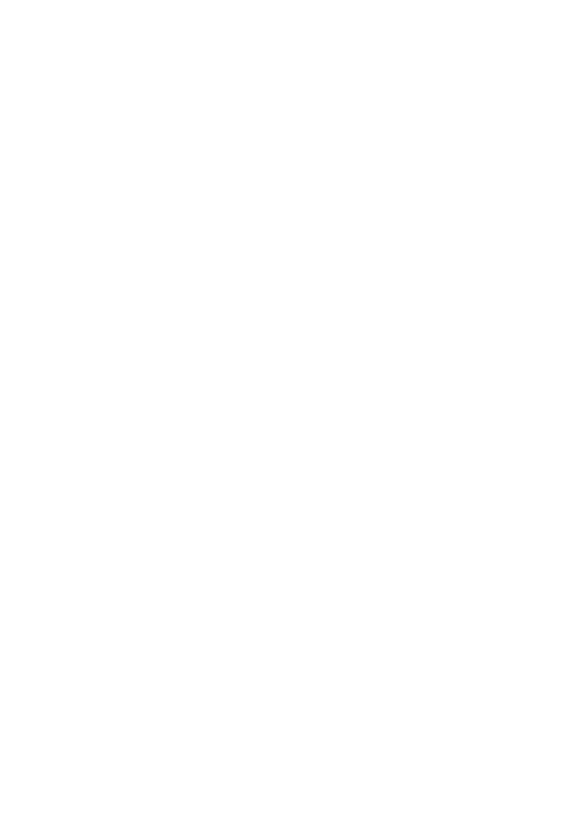
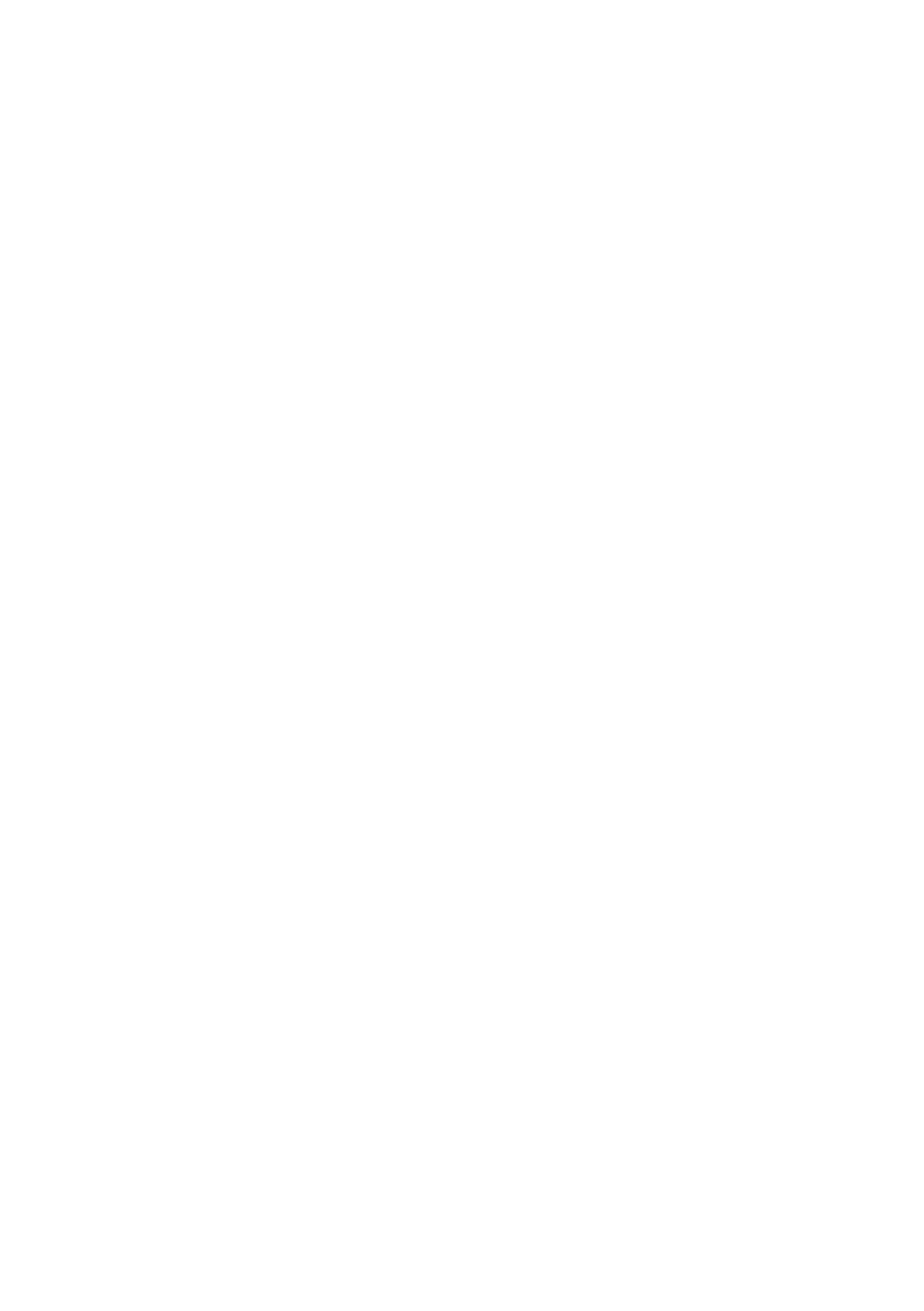
Из наградного листа:
«При прорыве обороны противника в районе гор. Кёнигсберг и в последующих наступательных боях с 6 по 14 апреля 1945 года проявил себя смелым, храбрым и знающим своё дело телефонистом-связистом. Работая линейным надсмотрщиком на Линии связи, связывающей командира группы ПП с командующим артиллерией дивизии, в боевых порядках пехоты, умело и быстро восстанавливал все прорывы на Линии, ни на шаг не отставая от командира группы при передвижениях, прокладывая за ним проволочную связь под постоянным арт. мин. огнем противника, обеспечивая бесперебойную связь. Всего им было устранено до 75 прорывов на Линии».
Григорий Николаевич закончил войну на территории современной Польши. Вернулся в свою деревню, работал в совхозе, женился на Марфе Минеевне Мусихиной, в семье появилось семь детей. Мой отец (он был старшим сыном в семье) вспоминает, что дед ничего не рассказывал о войне. О том, что он воевал в Кёнигсберге, мы узнали только тогда, когда появилась информация на сайтах «Подвиг народа» и «Память народа». Изучая боевой путь дивизии, мы выяснили, что дед получил орден за бои под Метгетеном — это район современного посёлка им. Александра Космодемьянского, воевал в районе Фишхаузена (Приморск). Он умер в далёком 1968 году, до того, как появились на свет его многочисленные внуки, а теперь и правнуки. Мой отец Георгий Григорьевич Майтаков окончил ТОВВМУ, был военно-морским офицером, наша семья переехала в Калининград в конце 80-х. Отец закончил службу в звании капитана первого ранга, занимая пост начальника разведки Тихоокеанского флота. Теперь служат в Вооруженных силах внук и правнук Григория Николаевича Майтакова.
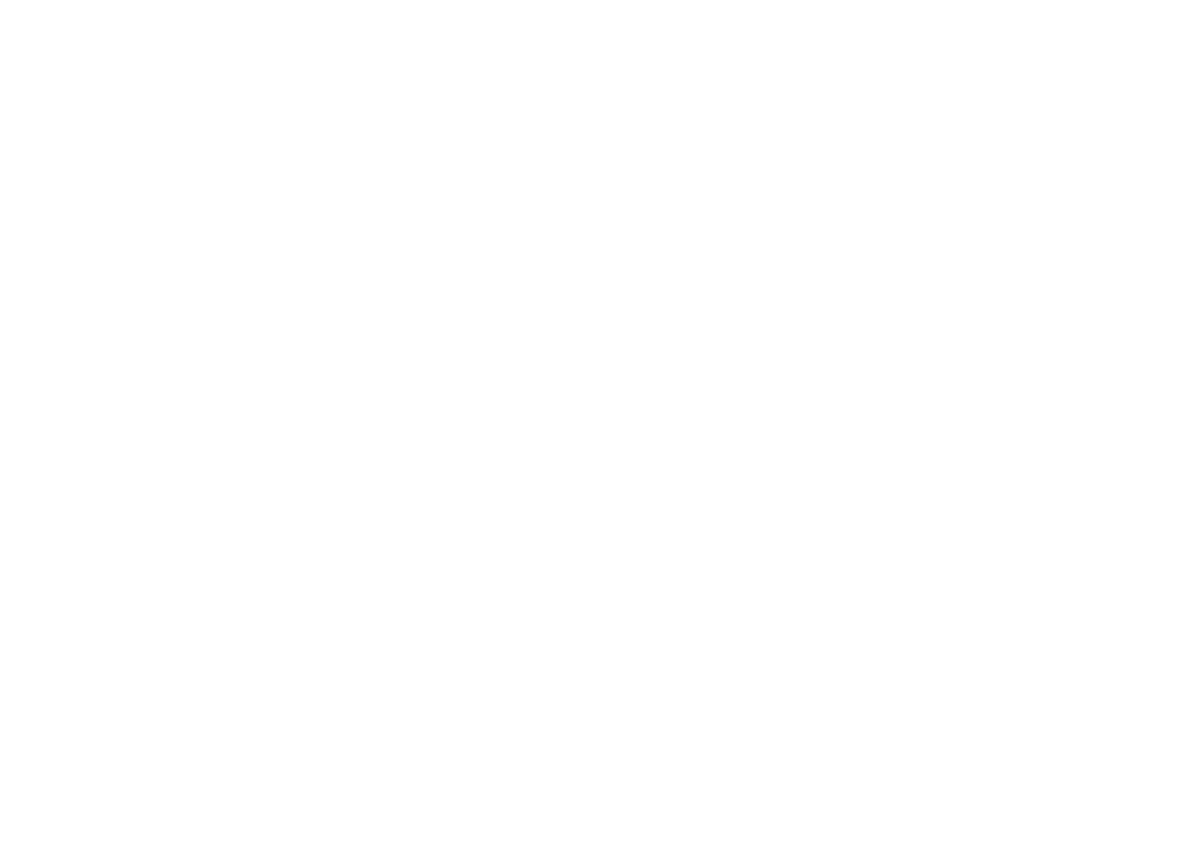
Боевой путь
Прадед по материнской линии Фёдор Петрович Кайков из сибирской деревни — призывали его из Идринского района Красноярского края. В армию, как отмечается в данных военкомата, он ушёл в 1928 году в возрасте 24 лет. У него только родилась дочь — моя бабушка. У неё в альбоме сохранилась его фотография в шинели и буденовке. Федор Петрович остался служить в армии, хорошо выучил немецкий язык. Как говорила бабушка, одно время он служил в разведке — даже гулял на немецкой свадьбе, где его приняли за своего. По данным сайта «Память народа», на фронте он был с 1942 года и служил в органах безопасности, СМЕРШ (сокращение от «Смерть шпионам», военная контрразведка), участвовал в боях, был тяжело ранен. Место службы — 74-й гвардейский стрелковый полк 27-й гвардейской стрелковой дивизии. Начинал войну в звании старшего сержанта госбезопасности, закончил гвардии старшим лейтенантом в Берлине.
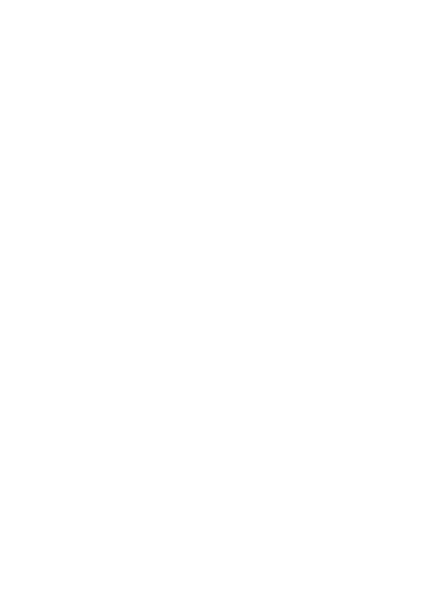
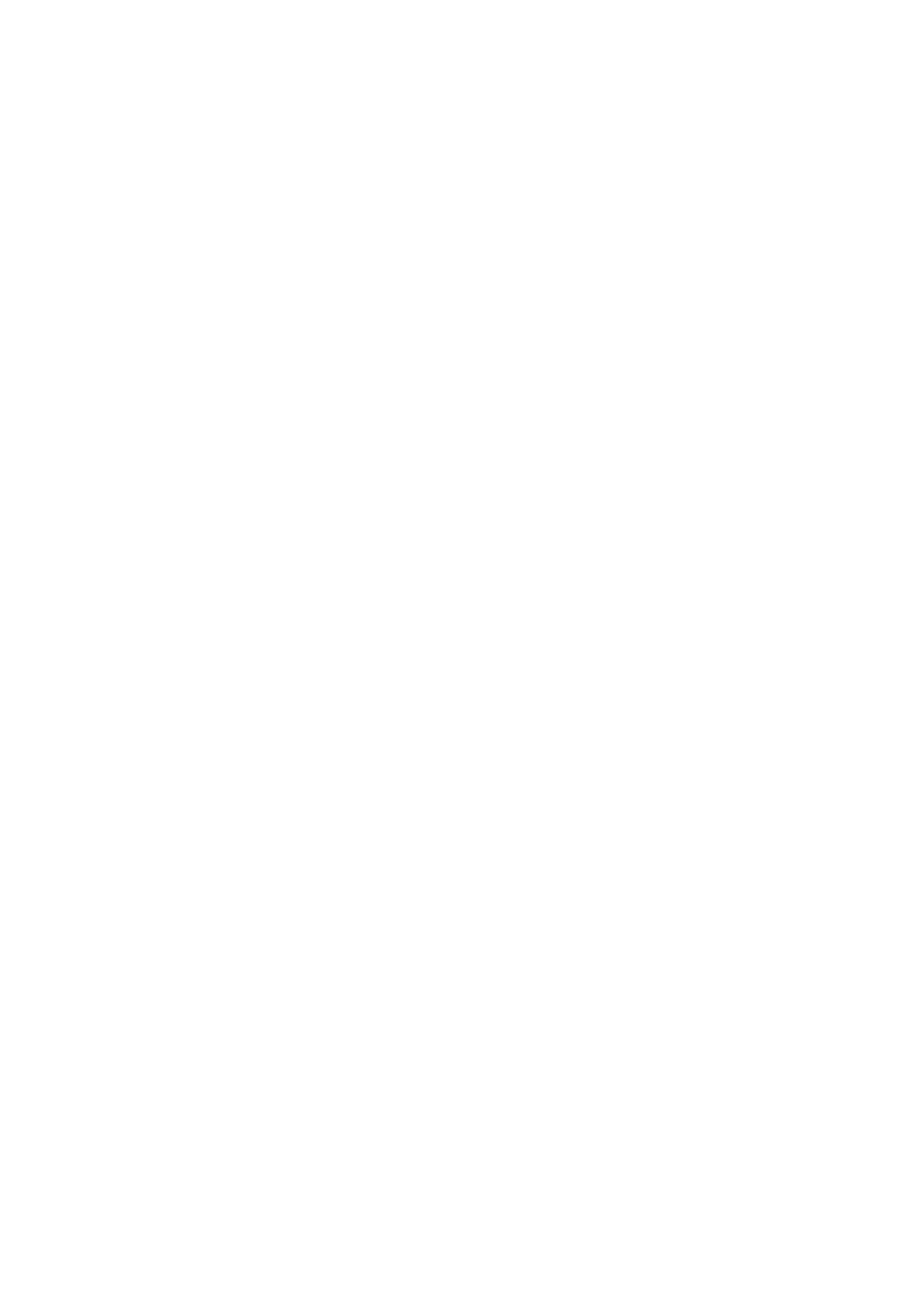
Из наградного листа:
«20 ноября 1942 года в боях за высоту 213,8 сумел направить батальон на отражение атаки противника. Противник был отброшен с большими потерями. Батальон в ходе этого боя занял тактически выгодный рубеж. 21 ноября 1942 года тов. Кайков, продвигаясь в передовые линии батальона, из винтовки лично уничтожил 8 фрицев. Достоин правительственной награды — ордена «Красной звезды»».
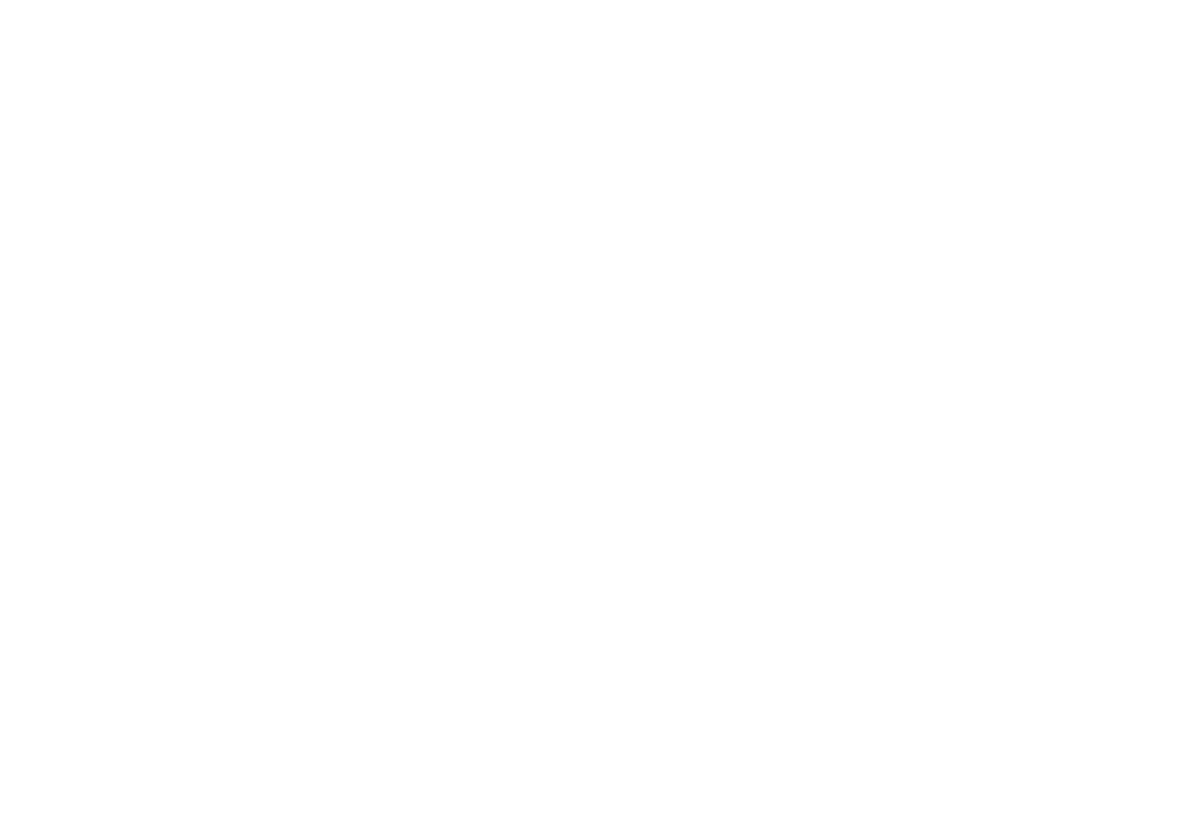
Боевой путь
Фёдор Петрович закончил войну в звании гвардии старшего лейтенанта, после Победы служил около двух лет в Потсдаме. Потом вернулся на малую родину в Хакасию, служил в комендатуре. Умер в 1957 году в возрасте 53 лет из-за фронтовых ранений.
Награжден тремя орденами Красной звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За оборону Сталинграда».
Награжден тремя орденами Красной звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За оборону Сталинграда».
В 2020 году в наш семейный Бессмертный полк вошли родные младшие братья моей прабабушки Анны Савельевны Морозовой (Кайковой) — о них рассказала моя мама, мы нашли их документы на «ОБД Мемориал». Иван Савельевич Морозов был призван на фронт осенью 1941 года в возрасте 31 года, у него остались жена и дочь. Он погиб на территории Украины в деревне Семеновка Житомирской области в декабре 1943 года.
Михаил Савельевич Морозов родился в 1923 году в селе Отрок Красноярского края. Он всего на три года старше моей бабушки и, по её воспоминаниям, был довольно своенравным парнем. Она даже как-то училась с ним в одном классе, потому что того оставили на второй год. Ивана призвали на фронт в 1943 году. Он служил в составе 56-й стрелковой дивизии.
В 1944 году был награжден медалью «За боевые заслуги». Был ездовым минометной роты. В бою у деревни Сягримяэ 11 августа 1944 года под сильным огнем противника доставил мины на огневую позицию. Потом заменил раненого наводчика, обеспечив бесперебойную работу орудия.
В 1944 году был награжден медалью «За боевые заслуги». Был ездовым минометной роты. В бою у деревни Сягримяэ 11 августа 1944 года под сильным огнем противника доставил мины на огневую позицию. Потом заменил раненого наводчика, обеспечив бесперебойную работу орудия.
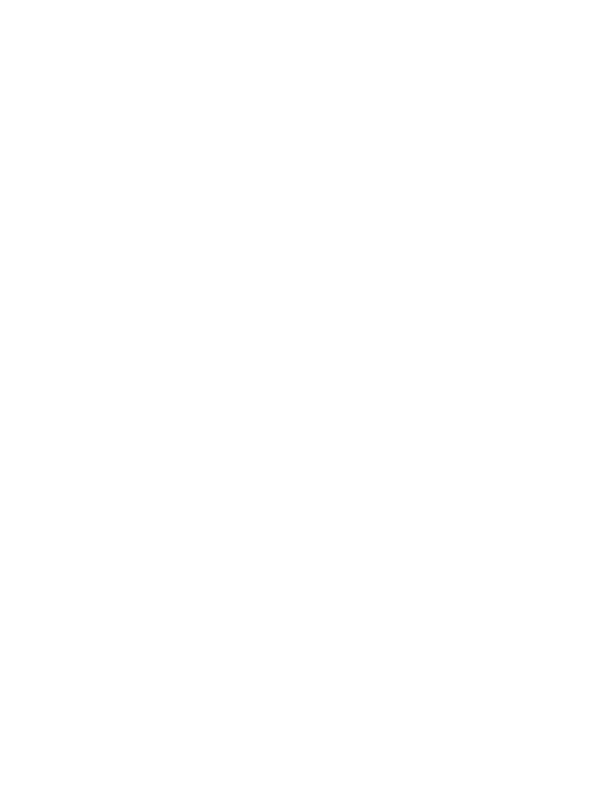
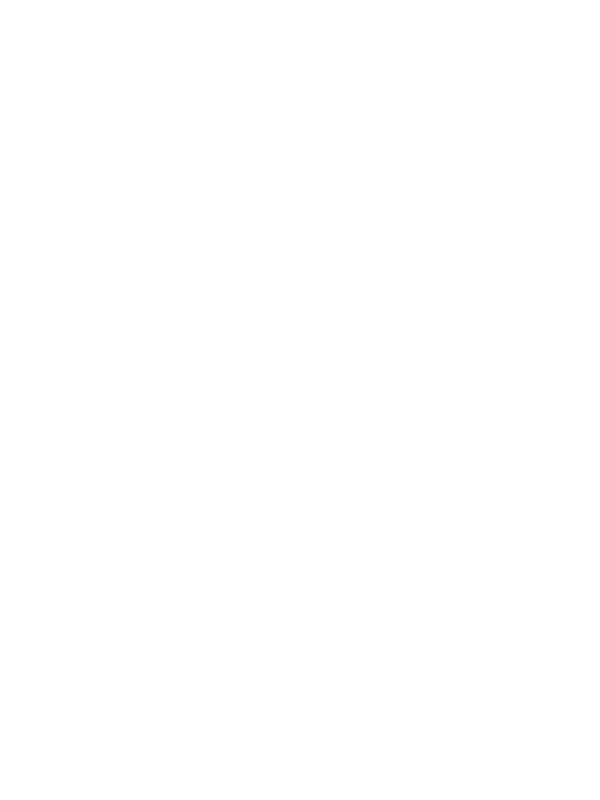
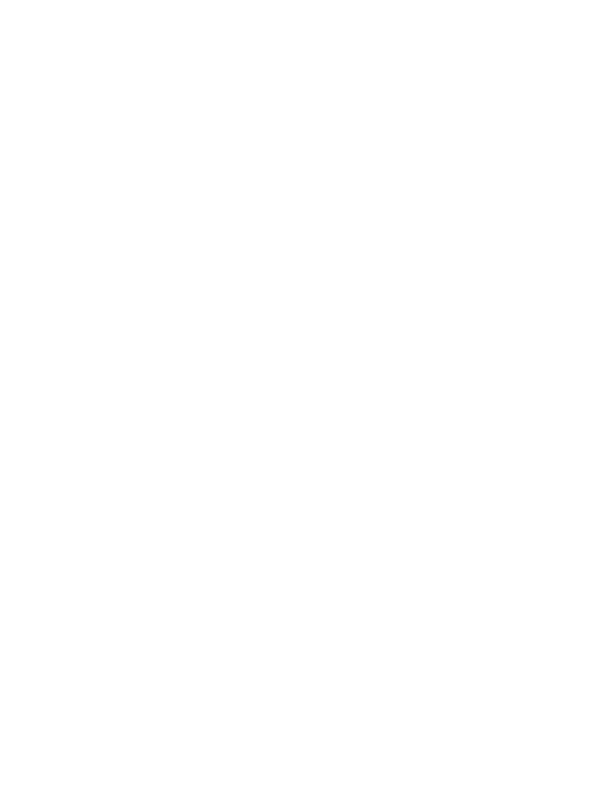
Михаил погиб 11 октября 1944 года на территории Латвии в районе местечка Зелтини. Ему был 21 год. У Михаила не было жены и детей, не осталось его фотографий. Похоронку отправили его матери (моей прапрабабушке) Матрёне Морозовой в село Отрок. Матрёна вырастила пятерых детей — трех дочерей и двух сыновей, и обоих сыновей похоронила на той войне. Её муж Савелий Логинович воевал в Первую мировую, был дважды ранен, получил отравление газами, поэтому его на фронт не взяли.
Единственные потомки Михаила Морозова — это мы, правнуки его сестёр. За 80 лет никто из нашей семьи не побывал на его могиле — мы про нее просто не знали. Найти место захоронения помог калининградский краевед Василий Савчук — это братская могила на северной окраине села Ропажи, за рекой Лиела Югла.
В 2020 на мемориале побывал и возложил цветы житель Риги Александр Жгун. А в 2022 году 9 мая возлагала цветы мама девушки, с которой мы познакомились в одной из моих зарубежных поездок. Совершенно незнакомый мне человек, для которого наша персональная память стала и её памятью тоже.
Теперь информация о Михаиле Морозове есть и в базе данных электронной Книги памяти Калининградской области.
Единственные потомки Михаила Морозова — это мы, правнуки его сестёр. За 80 лет никто из нашей семьи не побывал на его могиле — мы про нее просто не знали. Найти место захоронения помог калининградский краевед Василий Савчук — это братская могила на северной окраине села Ропажи, за рекой Лиела Югла.
В 2020 на мемориале побывал и возложил цветы житель Риги Александр Жгун. А в 2022 году 9 мая возлагала цветы мама девушки, с которой мы познакомились в одной из моих зарубежных поездок. Совершенно незнакомый мне человек, для которого наша персональная память стала и её памятью тоже.
Теперь информация о Михаиле Морозове есть и в базе данных электронной Книги памяти Калининградской области.
Отец пропал по пути в госпиталь, сын доехал до Праги на «Катюше»
Журналист Иван Марков:
— Когда моя семья отмечает 9 Мая, то в первую очередь мы вспоминаем двух участников той войны — Ивана Трофимовича Маркова и его сына Владимира Ивановича Маркова. Первый с войны не вернулся, и мы до сих пор не знаем, где его могила, а второй дошёл до Чехословакии. Владимир Иванович ещё несколько лет прослужил на Кубани и на Сахалине, вырастил троих сыновей и дожил до 85 лет.
Иван Трофимович Марков родился на хуторе Федотовском (сегодня часть села Холопово) Брейтовской волости Мологского уезда Ярославской губернии в 1902 году. Он успел получить пять классов образования, после чего начал работать в поле. Несколько лет назад я решил записать на диктофон рассказ моего двоюродного деда Анатолия Ивановича, сына Ивана Трофимовича: «В партию отец вступил в 19 лет. Сначала работал в ревизионной комиссии села Прозорово, после чего, в 30-х годах был отправлен на Сить, в деревню Соколы, где стал председателем колхоза. После проведения успешной работы он строил колхоз в Лукине. Там сеяли овёс, пшеницу и гречу, а также держали пасеку. Работу он поставил хорошо, и колхозники работали не за палочки, как везде, а получали в конце месяца по два килограмма зерна за трудодень, а также мёд. На одном из отчётных собраний его даже решили премировать хромовыми сапогами, но отец выдвинул встречное предложение — отдать сапоги бедняку, наработавшему больше всего трудодней. Помню, что мать Дарья дома сильно ругала его за это, потому что нормальной обуви у отца сроду не было».
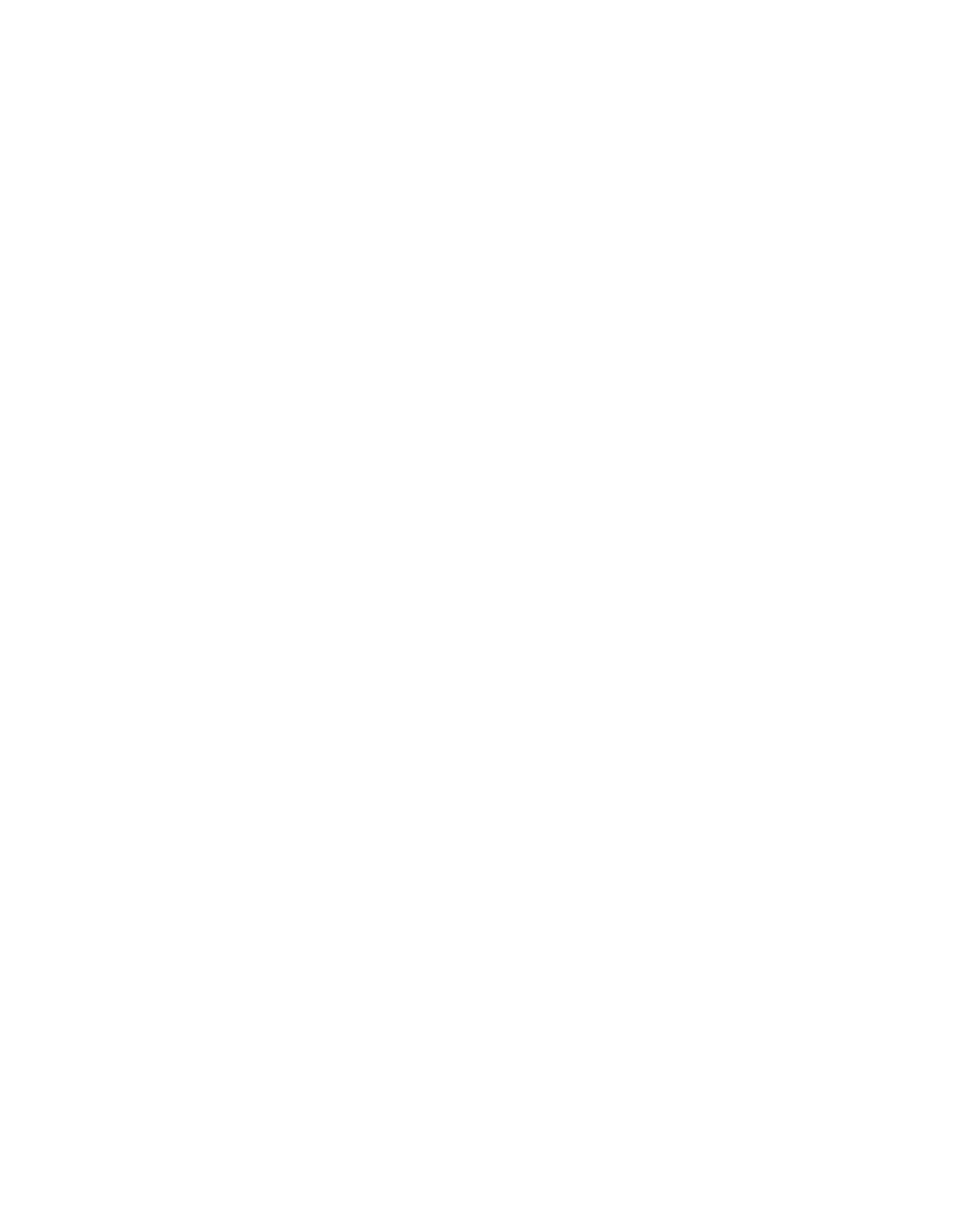
К началу войны Иван Трофимович вернулся в Холопово и работал председателем прозоровского сельсовета. В августе 1941 года его, отца троих сыновей, вместе с ещё одним односельчанином призвали по повестке.
95-й гвардейский стрелковый полк 328-й стрелковой дивизии — первое воинское соединение, в которое он попал. Там Иван Трофимович числился с 29 августа 1941 года. Дивизия на тот момент только-только формировалась в Костроме из военнообязанных ярославцев (Кострома на тот момент также была в составе Ярославской области). Как раз 29 августа она приступила к боевой подготовке в Песочных лагерях в 27 километрах от Костромы. Оружие бойцы получили в начале октября и 26 октября их направили в распоряжение 10-й армии в район Пензы (1 октября 10-я армия была сформирована заново, так как в июне она была разгромлена вермахтом в Белостокско-Минском «котле»).
Документы, которые мне удалось разыскать на портале «Память народа», свидетельствуют, что в декабре 1942 года Ивана Трофимовича по возрасту увольняли в запас, откомандировав в Канск Красноярского края. Один из его сослуживцев, по словам его сына Анатолия, рассказал, что отсиживаться в тылу мой прадед не пожелал и написал заявление, чтобы его вернули на передовую. В городе Ачинск того же Красноярского края из возрастных и прошедших госпиталь бойцов была сформирована команда из 63 человек, которую вскоре снова отправили на фронт. В неё попал и сержант Марков.
В апреле 1943 года Иван Трофимович становится командиром стрелкового отделения мотострелково-пулемётного батальона 4-й гвардейской танковой бригады. К этому времени бригадой командовал уроженец Бердянска гвардии полковник Андрей Константинович Бражников. В конце ноября 43-го Бражников получит тяжёлое ранение и три месяца пролежит в смоленском госпитале. В Белорусской наступательной операции и в боях на территории Восточной Пруссии бригада будет воевать уже без него. Впрочем, Иван Трофимович тоже не успеет дожить до выхода бригады к госгранице. Последнее известие о нём семья получила вскоре после того, как гвардии сержант Марков получил тяжёлое ранение и медаль «За отвагу» (представлен он был к ордену Красной звезды, но Бражников приказал вручить медаль).
95-й гвардейский стрелковый полк 328-й стрелковой дивизии — первое воинское соединение, в которое он попал. Там Иван Трофимович числился с 29 августа 1941 года. Дивизия на тот момент только-только формировалась в Костроме из военнообязанных ярославцев (Кострома на тот момент также была в составе Ярославской области). Как раз 29 августа она приступила к боевой подготовке в Песочных лагерях в 27 километрах от Костромы. Оружие бойцы получили в начале октября и 26 октября их направили в распоряжение 10-й армии в район Пензы (1 октября 10-я армия была сформирована заново, так как в июне она была разгромлена вермахтом в Белостокско-Минском «котле»).
Документы, которые мне удалось разыскать на портале «Память народа», свидетельствуют, что в декабре 1942 года Ивана Трофимовича по возрасту увольняли в запас, откомандировав в Канск Красноярского края. Один из его сослуживцев, по словам его сына Анатолия, рассказал, что отсиживаться в тылу мой прадед не пожелал и написал заявление, чтобы его вернули на передовую. В городе Ачинск того же Красноярского края из возрастных и прошедших госпиталь бойцов была сформирована команда из 63 человек, которую вскоре снова отправили на фронт. В неё попал и сержант Марков.
В апреле 1943 года Иван Трофимович становится командиром стрелкового отделения мотострелково-пулемётного батальона 4-й гвардейской танковой бригады. К этому времени бригадой командовал уроженец Бердянска гвардии полковник Андрей Константинович Бражников. В конце ноября 43-го Бражников получит тяжёлое ранение и три месяца пролежит в смоленском госпитале. В Белорусской наступательной операции и в боях на территории Восточной Пруссии бригада будет воевать уже без него. Впрочем, Иван Трофимович тоже не успеет дожить до выхода бригады к госгранице. Последнее известие о нём семья получила вскоре после того, как гвардии сержант Марков получил тяжёлое ранение и медаль «За отвагу» (представлен он был к ордену Красной звезды, но Бражников приказал вручить медаль).
Схемы последних боевых действий, в которых принимал участие Иван Трофимович
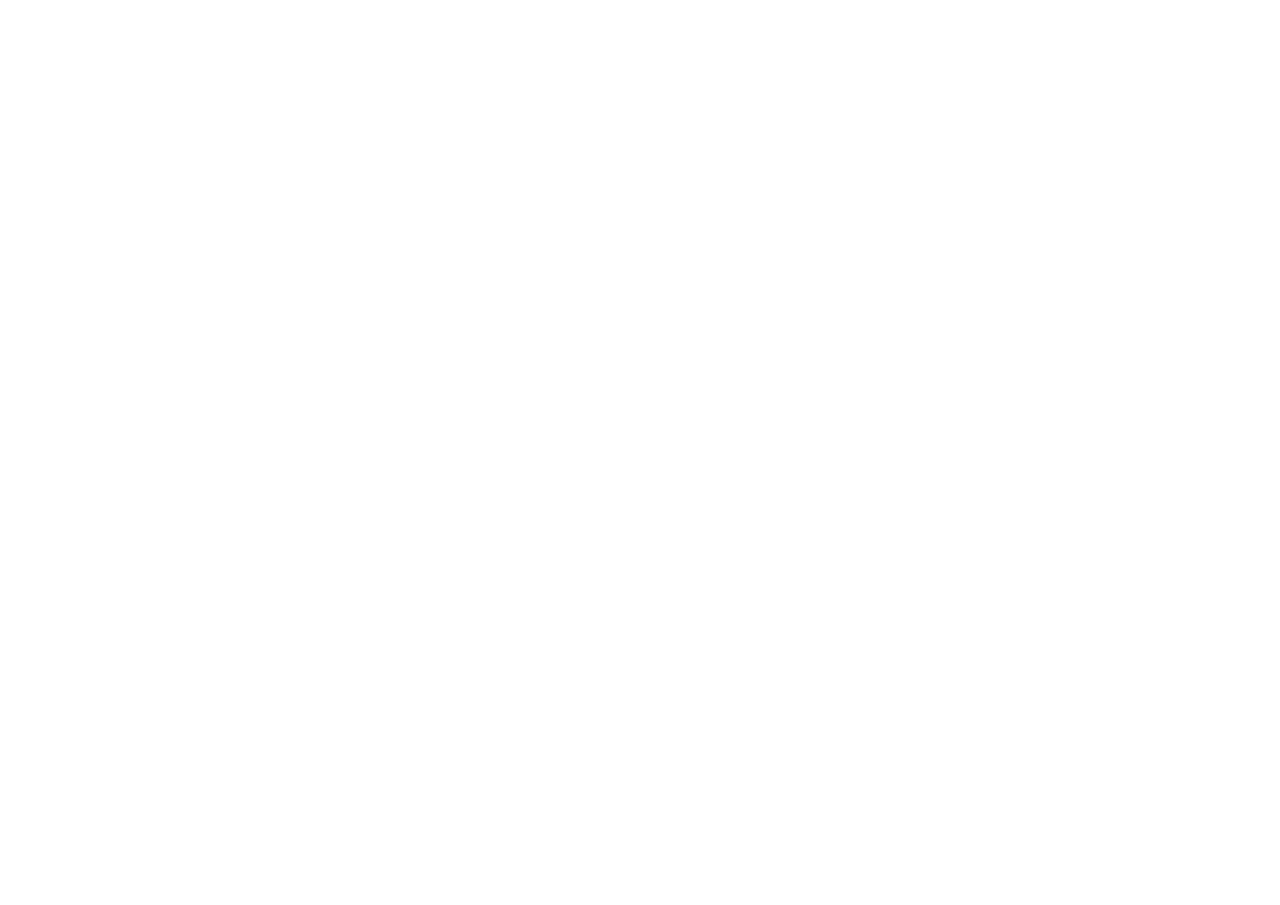
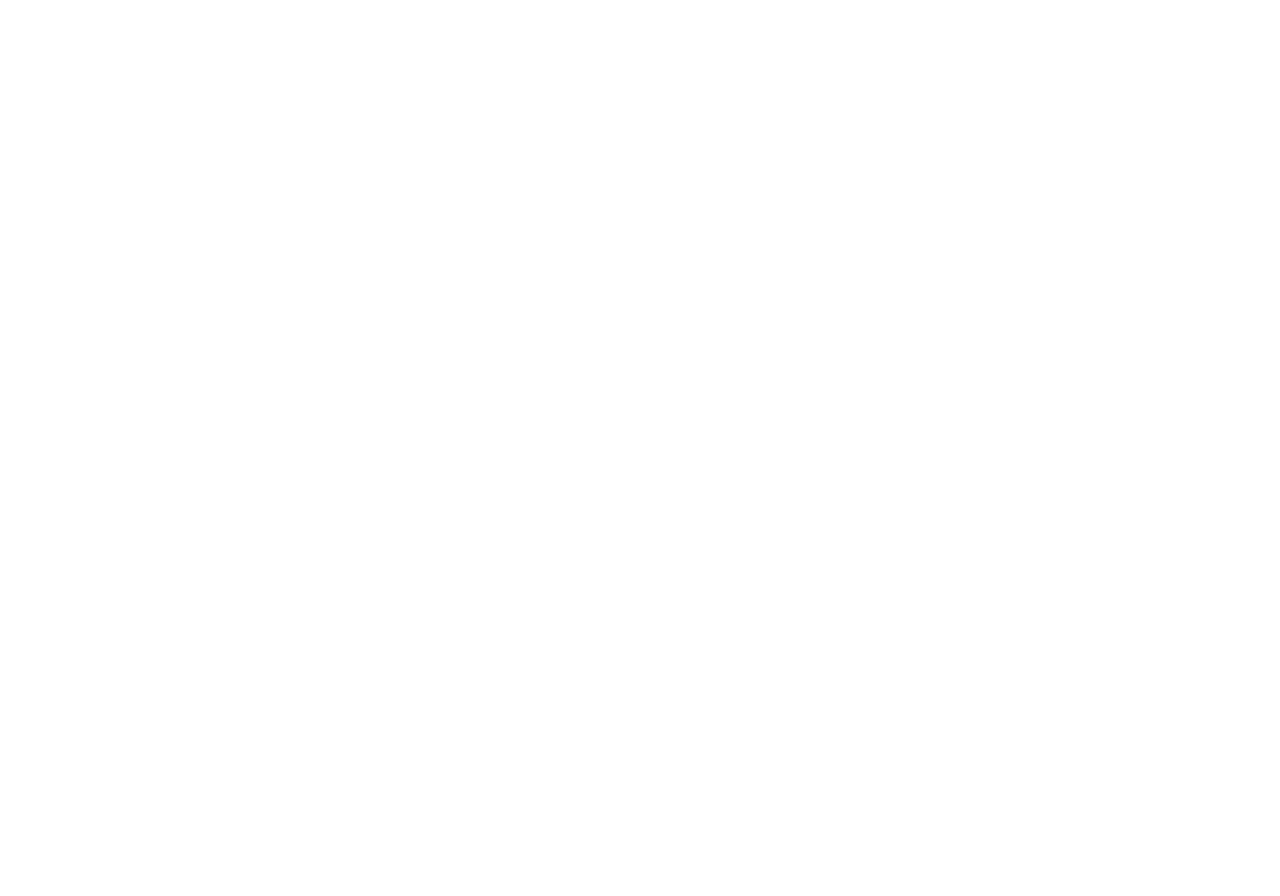
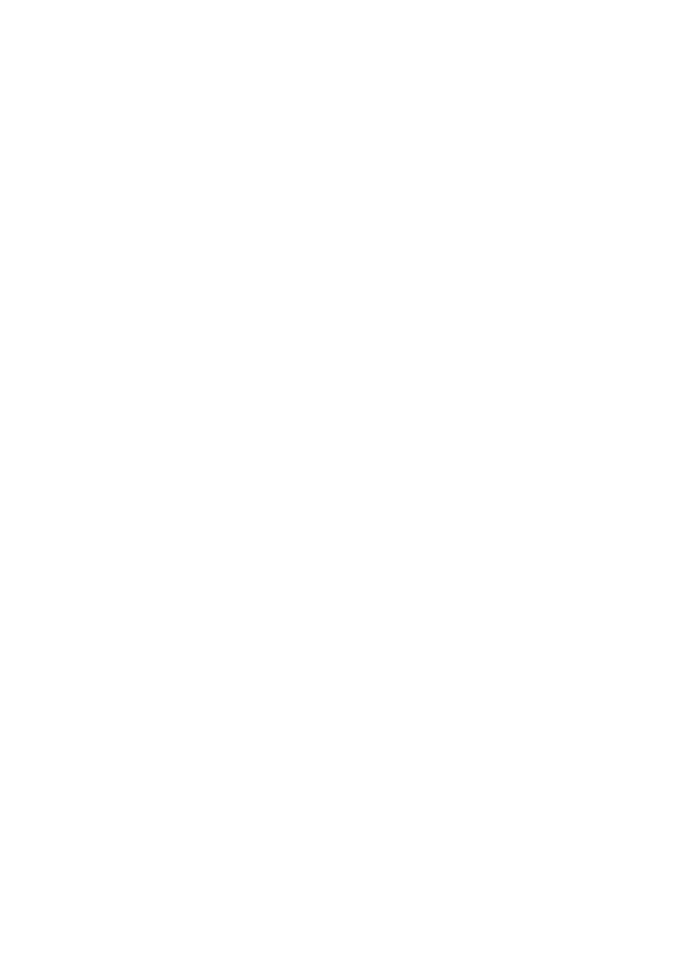
К награде Иван Трофимович был представлен 29 сентября. Она была не за разовый подвиг. С 5 по 15 августа, судя по наградному листу, гвардии сержант со своей ротой отбивал атаки гитлеровцев у посёлков Сажное и Беленихино Прохоровского района Белгородской области — в тех местах, где месяцем ранее пытались прорваться гитлеровские дивизии Das Reich и Totenkopf.
С 28 августа по 6 сентября прадед принимал участие в наступательных боях за город Ельня Смоленской области. Вот выдержка из наградных документов: «Отделение товарища Маркова, следуя примеру своего командира, смело продвигалось вперёд и уничтожило не один десяток фашистов». С 7 сентября вся танковая бригада занимала удобный рубеж, ремонтировалась и пополняла запасы, а 15-го числа того же месяца бои возобновились.
С 15 сентября отделение Ивана Маркова сражалось в районе сёл Тупицы и Берёзкино западнее Ельни. Вот ещё одна выдержка из наградного листа: «Товарищ Марков действовал бесстрашно и стремительно. Ворвавшись в село Тупицы, отделение товарища Маркова уничтожило около 20 немецких солдат и офицеров. В этом бою товарищ Марков был ранен».
С 28 августа по 6 сентября прадед принимал участие в наступательных боях за город Ельня Смоленской области. Вот выдержка из наградных документов: «Отделение товарища Маркова, следуя примеру своего командира, смело продвигалось вперёд и уничтожило не один десяток фашистов». С 7 сентября вся танковая бригада занимала удобный рубеж, ремонтировалась и пополняла запасы, а 15-го числа того же месяца бои возобновились.
С 15 сентября отделение Ивана Маркова сражалось в районе сёл Тупицы и Берёзкино западнее Ельни. Вот ещё одна выдержка из наградного листа: «Товарищ Марков действовал бесстрашно и стремительно. Ворвавшись в село Тупицы, отделение товарища Маркова уничтожило около 20 немецких солдат и офицеров. В этом бою товарищ Марков был ранен».
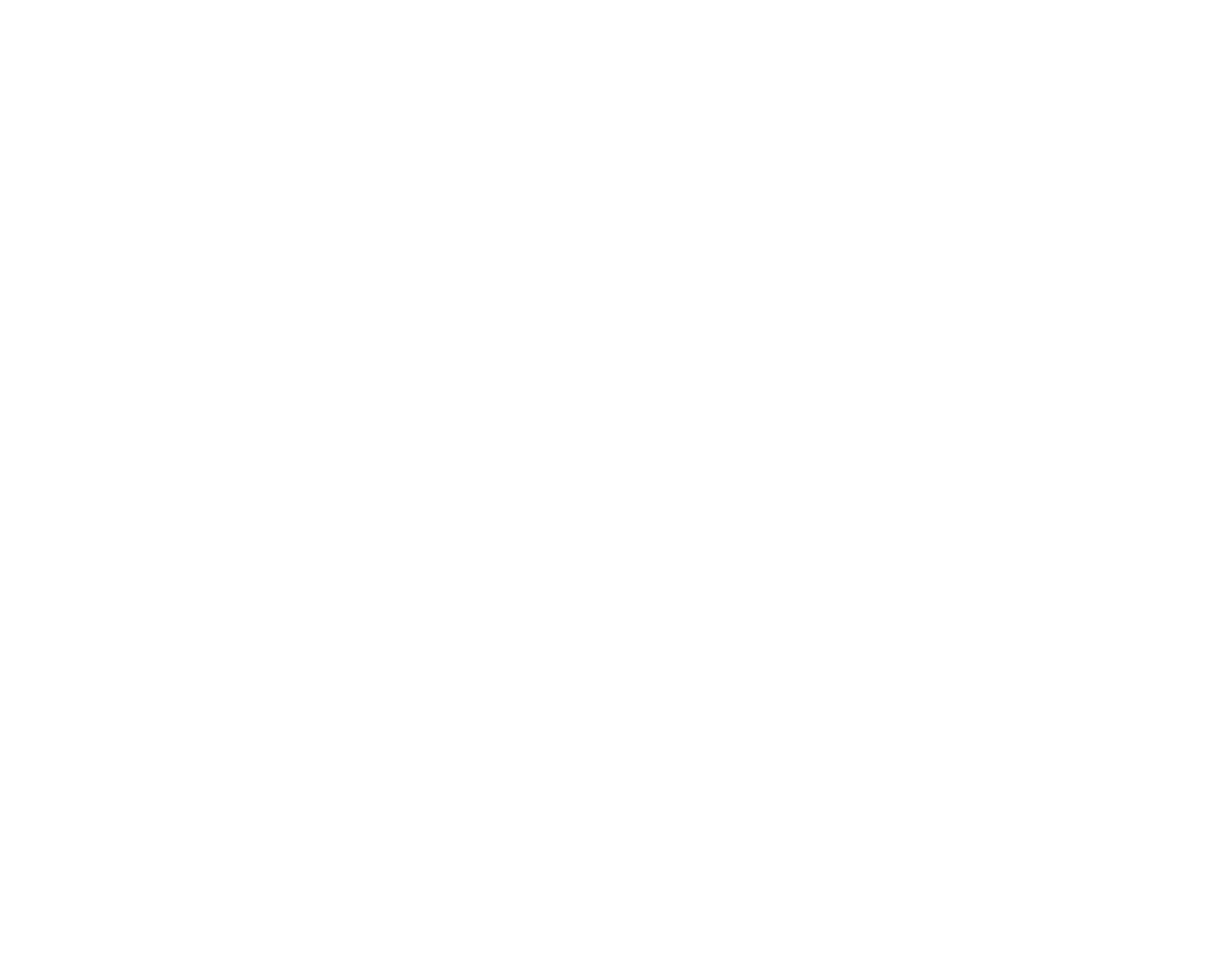
Иван Трофимович Марков (крайний справа) с сослуживцами
Именно тут история получает совсем печальный оборот. Как вспоминал мой дед Владимир Иванович, Иван Трофимович прислал жене Дарье письмо, в котором сообщал, что после того боя под Тупицами детей у них больше быть не может. И что с таким ранением ему стыдно возвращаться в родное село Холопово. К сожалению, это письмо не сохранилось.
Дарья Ивановна долго пыталась добиться в военкомате, чтобы ей сообщили о судьбе мужа, однако никаких конкретных данных её так и не сообщили. В мае 1947 года на её запрос пришёл короткий ответ: «Пропал без вести. Известий нет с сентября 1943 года. По сообщению воинской части 59310 (под этим номером скрывалось название 4-й танковой бригады — прим. „Нового Калининграда“), был ранен в сентябре 1943 года и выбыл в госпиталь. Известий больше нет».
Бои под Ельней, сёлами Тупицы, Берёзкино, Сажное и Беленихино подробно описываются в отчётах командования 4-й гвардейской танковой бригады, гвардии полковника Бражникова, гвардии майора Чепкова и гвардии подполковника Козырева. Всё это есть в открытом доступе со всеми донесениями, рисованными от руки картами и мельчайшими подробностями, за что создателям сайта «Память народа» огромное спасибо.
В частности, благодаря опубликованным документам известно, что последний бой танковой бригады, в котором принимал участие мой прадед, был весьма кровопролитным. Бригада потеряла 82 человека убитыми, 251 солдат и офицер был ранен, и семеро пропали без вести. Противнику удалось сжечь 24 средних танка Т-34, 1 лёгкий танк Т-70, а также частично вывести из строя 13 танков. В то же время враг потерял 1400 солдат и офицеров убитыми, а также 4 танка (1 танк и 1 самоходка были подбиты) и 13 пушек.
Дарья Ивановна долго пыталась добиться в военкомате, чтобы ей сообщили о судьбе мужа, однако никаких конкретных данных её так и не сообщили. В мае 1947 года на её запрос пришёл короткий ответ: «Пропал без вести. Известий нет с сентября 1943 года. По сообщению воинской части 59310 (под этим номером скрывалось название 4-й танковой бригады — прим. „Нового Калининграда“), был ранен в сентябре 1943 года и выбыл в госпиталь. Известий больше нет».
Бои под Ельней, сёлами Тупицы, Берёзкино, Сажное и Беленихино подробно описываются в отчётах командования 4-й гвардейской танковой бригады, гвардии полковника Бражникова, гвардии майора Чепкова и гвардии подполковника Козырева. Всё это есть в открытом доступе со всеми донесениями, рисованными от руки картами и мельчайшими подробностями, за что создателям сайта «Память народа» огромное спасибо.
В частности, благодаря опубликованным документам известно, что последний бой танковой бригады, в котором принимал участие мой прадед, был весьма кровопролитным. Бригада потеряла 82 человека убитыми, 251 солдат и офицер был ранен, и семеро пропали без вести. Противнику удалось сжечь 24 средних танка Т-34, 1 лёгкий танк Т-70, а также частично вывести из строя 13 танков. В то же время враг потерял 1400 солдат и офицеров убитыми, а также 4 танка (1 танк и 1 самоходка были подбиты) и 13 пушек.
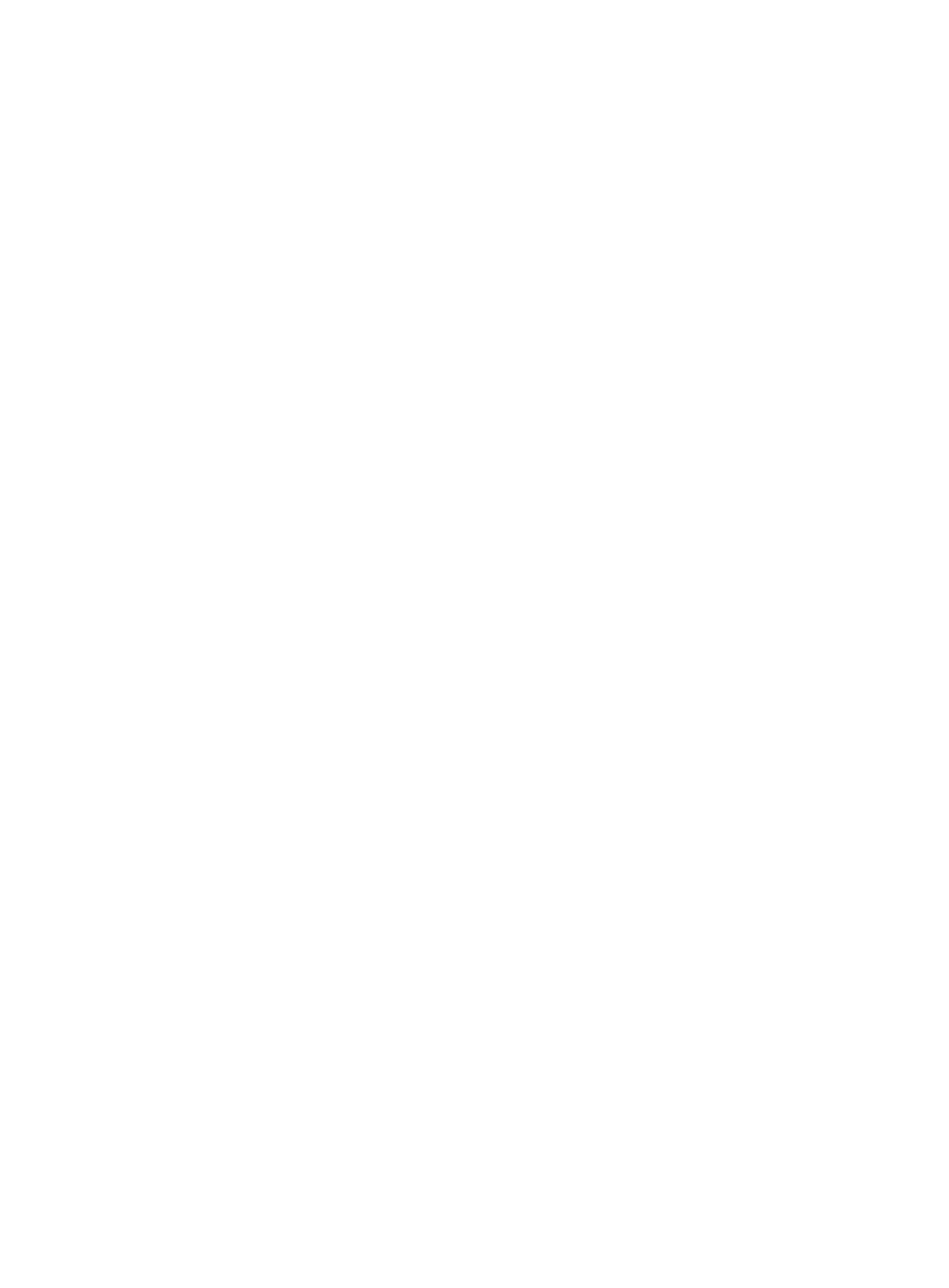
После извещения о том, что Иван Трофимович пропал без вести, на фронт добровольцем ушёл его старший сын (мой дед) Владимир Иванович Марков.
Владимир Иванович, родившийся в 1925 году на том же хуторе Федотовском, что и его отец, не успел окончить шестой класс, так как начал работать в колхозе. Первый день войны он встретил на работе.
В 1990-х годах сотрудница библиотеки села Прозорово Брейтовского района Ярославской области Надежда Папушкина, собирая информацию о земляках, принимавших участие в Великой Отечественной войне, записала на диктофон и рассказ моего деда. В 2020 году, через десять лет после его смерти, Надежда поделилась со мной этой записью. Расшифровав её, я сравнил прямую речь с документами, имеющимися в открытом доступе (в том числе с журналами боевых действия) — отклонений было немного, а потому буду приводить здесь цитаты из того рассказа.
Владимир Иванович, родившийся в 1925 году на том же хуторе Федотовском, что и его отец, не успел окончить шестой класс, так как начал работать в колхозе. Первый день войны он встретил на работе.
В 1990-х годах сотрудница библиотеки села Прозорово Брейтовского района Ярославской области Надежда Папушкина, собирая информацию о земляках, принимавших участие в Великой Отечественной войне, записала на диктофон и рассказ моего деда. В 2020 году, через десять лет после его смерти, Надежда поделилась со мной этой записью. Расшифровав её, я сравнил прямую речь с документами, имеющимися в открытом доступе (в том числе с журналами боевых действия) — отклонений было немного, а потому буду приводить здесь цитаты из того рассказа.
«Перед началом войны мы работали на ситской дороге (дорога от Брейтово к селу Сить-Покровское — прим. „Нового Калининграда“), — вспоминал Владимир Иванович. — 22 июня, на Кирилловскую, приехали в Брейтово за материалами для мостов, а там народ кучками собирался. Мы ничего не поняли, но материал нам почему-то не дали. А когда вернулись на место, узнали, что началась война».
Так как враг в первые месяцы войны стремительно приближался к Москве, гражданское население всех соседних областей, включая Ярославскую, начали привлекать на рытьё окопов и противотанковых рвов. Владимира Маркова же отправили на строительство аэродрома в районе села Родионово Некоузского района, потом на вывоз леса с территорий, которые собирались затопить Рыбинским водохранилищем, а уже после этого его направили рыть окопы под деревней Мухино Рыбинского района.
«В 1943 году нас (тех, кто родился в 1925 году) начали брать в армию, — продолжает Владимир Иванович. — Я попал в ФЗО (фабрично-заводское обучение — прим. „Нового Калининграда“) от 20-го завода. Мы там учились шесть месяцев. Работали в подсобном хозяйстве за станцией Лом, в совхозе „Свобода“ Рыбинского района».
Так как враг в первые месяцы войны стремительно приближался к Москве, гражданское население всех соседних областей, включая Ярославскую, начали привлекать на рытьё окопов и противотанковых рвов. Владимира Маркова же отправили на строительство аэродрома в районе села Родионово Некоузского района, потом на вывоз леса с территорий, которые собирались затопить Рыбинским водохранилищем, а уже после этого его направили рыть окопы под деревней Мухино Рыбинского района.
«В 1943 году нас (тех, кто родился в 1925 году) начали брать в армию, — продолжает Владимир Иванович. — Я попал в ФЗО (фабрично-заводское обучение — прим. „Нового Калининграда“) от 20-го завода. Мы там учились шесть месяцев. Работали в подсобном хозяйстве за станцией Лом, в совхозе „Свобода“ Рыбинского района».
После окончания ФЗО учившихся с Владимиром Марковым парней распределили по разным местам. Сам же он попал на переведённый на военные рельсы катерозавод (сегодня судостроительный завод «Вымпел» в Рыбинске — прим. «Нового Калининграда»). В 1944 году это предприятие начало выпускать первые в стране торпедные катера дальнего действия в стальном корпусе, завод также производил буксирные катера и прочую технику.
«Мне сначала хотелось учиться на столяра, но группу уже набрали, и я попал в плотники, — рассказывал о своих полубоевых буднях Владимир Иванович. — Мы как раз начинали строить новый цех, и я работал в столярке. Жили мы в бараках. А город каждую ночь бомбили. Немцы летали как по расписанию. Около часа ночи звучал сигнал тревоги, и многие уходили к Переборам. Жители боялись, что немцы взорвут плотину и всё затопит. Мы тоже иногда уходили. Но в конце концов каждую ночь бегать надоело. Мы спали не раздеваясь. И вот однажды я никуда не ушёл, а остался на месте. Немцы сбросили одну из бомб прямо в подстанцию, что недалеко от нашего барака. Помню, как стекла полетели, я одеяло сбросил, выбежал на улицу, а там ночью было светло как днём — немцы сбрасывали с парашютами осветительные ракеты. Мы разбежались кто куда, а самолет отбомбился и улетел. На вторую ночь меня с одним старичком послали в контору дежурить.
Мы до часу ночи не спали, а потом опять сигнал тревоги, прибежал прораб и сказал, что немцы зажигательные бомбы сбрасывают. С одной стороны завода стояли деревянные двухэтажные дома, а с другой — бараки, и там же воинская часть была. Артиллеристы как раз установили вдоль заводского забора орудия. Так вот, когда выбежали, то увидели, что немец зажёг весь этот поселок. А когда солдаты стали тушить, самолет их из пулемёта гонять начал. В наш барак тоже попали зажигалки: в крыльцо, покрытое рубероидом, и на чердак (бомба пробила обрешётку). Контора тоже загорелась. Мы повытаскивали документацию и кое-чего из вещей. И вот когда всё это загорелось, немцы начали бомбить завод. Цеха почти что все вспыхнули, катера на стапелях в решёта превратились, рельсы свернуло. Можно сказать, это было моё боевое крещение».
По всей вероятности, Владимир Иванович рассказывал о налёте немецкой авиации в ночь на 25 мая 1943 года. Он считается самым разрушительным для Рыбинска. В ту ночь на катерозаводе фугасами и зажигательными бомбами были уничтожены все основные корпуса, сгорели 33 жилых барака, 6 коммунальных домов, был выведен из строя водопровод.
Парней, родившихся в январе и в первых месяцах 1925 года, уже призвали на фронт, но у некоторых потенциальных призывников, в том числе и у Владимира Ивановича, была временная бронь. По данным завода «Вымпел», за годы войны более 700 его работников ушли на фронт. Из них 141 человек погиб и более 150 получили ранения. Катерозаводцы получили 1017 орденов и медалей за свои подвиги на поле боя. В эту статистику попали и Владимир Марков.
«Мне сначала хотелось учиться на столяра, но группу уже набрали, и я попал в плотники, — рассказывал о своих полубоевых буднях Владимир Иванович. — Мы как раз начинали строить новый цех, и я работал в столярке. Жили мы в бараках. А город каждую ночь бомбили. Немцы летали как по расписанию. Около часа ночи звучал сигнал тревоги, и многие уходили к Переборам. Жители боялись, что немцы взорвут плотину и всё затопит. Мы тоже иногда уходили. Но в конце концов каждую ночь бегать надоело. Мы спали не раздеваясь. И вот однажды я никуда не ушёл, а остался на месте. Немцы сбросили одну из бомб прямо в подстанцию, что недалеко от нашего барака. Помню, как стекла полетели, я одеяло сбросил, выбежал на улицу, а там ночью было светло как днём — немцы сбрасывали с парашютами осветительные ракеты. Мы разбежались кто куда, а самолет отбомбился и улетел. На вторую ночь меня с одним старичком послали в контору дежурить.
Мы до часу ночи не спали, а потом опять сигнал тревоги, прибежал прораб и сказал, что немцы зажигательные бомбы сбрасывают. С одной стороны завода стояли деревянные двухэтажные дома, а с другой — бараки, и там же воинская часть была. Артиллеристы как раз установили вдоль заводского забора орудия. Так вот, когда выбежали, то увидели, что немец зажёг весь этот поселок. А когда солдаты стали тушить, самолет их из пулемёта гонять начал. В наш барак тоже попали зажигалки: в крыльцо, покрытое рубероидом, и на чердак (бомба пробила обрешётку). Контора тоже загорелась. Мы повытаскивали документацию и кое-чего из вещей. И вот когда всё это загорелось, немцы начали бомбить завод. Цеха почти что все вспыхнули, катера на стапелях в решёта превратились, рельсы свернуло. Можно сказать, это было моё боевое крещение».
По всей вероятности, Владимир Иванович рассказывал о налёте немецкой авиации в ночь на 25 мая 1943 года. Он считается самым разрушительным для Рыбинска. В ту ночь на катерозаводе фугасами и зажигательными бомбами были уничтожены все основные корпуса, сгорели 33 жилых барака, 6 коммунальных домов, был выведен из строя водопровод.
Парней, родившихся в январе и в первых месяцах 1925 года, уже призвали на фронт, но у некоторых потенциальных призывников, в том числе и у Владимира Ивановича, была временная бронь. По данным завода «Вымпел», за годы войны более 700 его работников ушли на фронт. Из них 141 человек погиб и более 150 получили ранения. Катерозаводцы получили 1017 орденов и медалей за свои подвиги на поле боя. В эту статистику попали и Владимир Марков.
Дарья Ивановна с младшими сыновьями Евгением и Анатолием во время войны
Владимир Марков во время службы в кавалерии
«Я уже несколько раз призывался в армию, а меня снова и снова возвращали на завод, — продолжает он. — Но в марте пришла уже окончательная повестка, я получил расчёт карточками и попал в кавалерию. В кавалерию я не хотел, потому что слышал по рассказам одного старичка, что служба там тяжёлая, за конем ухаживать нужно, и выходных нет».
К сожалению, мне пока не удалось точно выяснить, в какой конкретно кавалерийской части служил Владимир Иванович. Однако с большой долей вероятности это 36-й гвардейский кавалерийский полк 10-й гвардейской казачьей кавалерийской дивизии. В ноябре 1943 — феврале 1944 года данная дивизия обороняла побережье Сивашского залива и сражалась в упомянутом ниже поселке Чаплинка. Известно также, что Владимир Марков успел выучиться на радиста.
«В ноябре нас погрузили в эшелоны, и ночью мы отправились на фронт, на Украину. Когда выгрузились (это тоже была ночь), были слышны выстрелы и взрывы, до места назначения добирались своим ходом. Остановились в Чаплинке (сегодня Херсонская область — прим. „Нового Калининграда“). А в это время румынская дивизия оставила фронт на Кавказе и стала прорываться к себе домой. Вышла она как раз на эту Чаплинку. Нас подняли по тревоге. Сделали несколько выстрелов по кукурузному полю, через которое румыны пробирались. А в соседней деревне стояла артиллерия из нашего корпуса, которая тоже открыла огонь. Утром было непонятно, где наши лежат, где румыны. Это первый бой был».
Дату перехода Владимира Ивановича из кавалерии в реактивную артиллерию мне пока установить не удалось, но воевала 10-я гвардейская казачья кавалерийская дивизия буквально бок о бок с 12-м гвардейским минометным полком, находившимся в подчинении 9-й гвардейской казачьей кавалерийской дивизии. Оба соединения в конце августа — начале сентября 1944 года были переброшены с 1-го Белорусского фронта и подчинены 2-му Украинскому фронту, то есть передислоцировались из Польши в Молдавию. К этому времени завершалась одна из самых удачных операций Красной армии за всё время Великой Отечественной войны — Ясско-Кишиневская, во время которой была освобождена Молдавия, и Германия потеряла союзника — Румынию.
«После этого пошли на Румынию, в городишко Плоешти, в котором нефтеперегонные заводы были (Плоешти был главным источником нефти для нацистской Германии — прим. „Нового Калининграда“), после — на Бухарест, правда, он ещё до нас был взят, — продолжает свой рассказ Владимир Иванович. — Румынию прошли, попали в Венгрию, наступали через города Балашшадьярмат, Дебрецен... Ещё во время окружения Будапешта мы целых три месяца стояли в обороне и не давали группировке пройти от Балатона. Там самолёты немецкие летали и сбрасывали им оружие и продукты на парашютах. Что-то даже нам приносило. К этому времени население Будапешта уже голодало. В феврале 1945-го эту группировку выпустили из Будапешта и в низине добили её. Потом мы стояли в обороне в Чехословакии, в селе Ватовцы. Там мы почти три месяца и были».
Как только был сформирован корпус, по словам Владимира Ивановича, началось наступление на чехословацкий город Трнава, а после его взятия красноармейцы вышли к подножию Карпат.
К сожалению, мне пока не удалось точно выяснить, в какой конкретно кавалерийской части служил Владимир Иванович. Однако с большой долей вероятности это 36-й гвардейский кавалерийский полк 10-й гвардейской казачьей кавалерийской дивизии. В ноябре 1943 — феврале 1944 года данная дивизия обороняла побережье Сивашского залива и сражалась в упомянутом ниже поселке Чаплинка. Известно также, что Владимир Марков успел выучиться на радиста.
«В ноябре нас погрузили в эшелоны, и ночью мы отправились на фронт, на Украину. Когда выгрузились (это тоже была ночь), были слышны выстрелы и взрывы, до места назначения добирались своим ходом. Остановились в Чаплинке (сегодня Херсонская область — прим. „Нового Калининграда“). А в это время румынская дивизия оставила фронт на Кавказе и стала прорываться к себе домой. Вышла она как раз на эту Чаплинку. Нас подняли по тревоге. Сделали несколько выстрелов по кукурузному полю, через которое румыны пробирались. А в соседней деревне стояла артиллерия из нашего корпуса, которая тоже открыла огонь. Утром было непонятно, где наши лежат, где румыны. Это первый бой был».
Дату перехода Владимира Ивановича из кавалерии в реактивную артиллерию мне пока установить не удалось, но воевала 10-я гвардейская казачья кавалерийская дивизия буквально бок о бок с 12-м гвардейским минометным полком, находившимся в подчинении 9-й гвардейской казачьей кавалерийской дивизии. Оба соединения в конце августа — начале сентября 1944 года были переброшены с 1-го Белорусского фронта и подчинены 2-му Украинскому фронту, то есть передислоцировались из Польши в Молдавию. К этому времени завершалась одна из самых удачных операций Красной армии за всё время Великой Отечественной войны — Ясско-Кишиневская, во время которой была освобождена Молдавия, и Германия потеряла союзника — Румынию.
«После этого пошли на Румынию, в городишко Плоешти, в котором нефтеперегонные заводы были (Плоешти был главным источником нефти для нацистской Германии — прим. „Нового Калининграда“), после — на Бухарест, правда, он ещё до нас был взят, — продолжает свой рассказ Владимир Иванович. — Румынию прошли, попали в Венгрию, наступали через города Балашшадьярмат, Дебрецен... Ещё во время окружения Будапешта мы целых три месяца стояли в обороне и не давали группировке пройти от Балатона. Там самолёты немецкие летали и сбрасывали им оружие и продукты на парашютах. Что-то даже нам приносило. К этому времени население Будапешта уже голодало. В феврале 1945-го эту группировку выпустили из Будапешта и в низине добили её. Потом мы стояли в обороне в Чехословакии, в селе Ватовцы. Там мы почти три месяца и были».
Как только был сформирован корпус, по словам Владимира Ивановича, началось наступление на чехословацкий город Трнава, а после его взятия красноармейцы вышли к подножию Карпат.
«Там у них на окраине такие же дома, как у нас в Рыбинске, в Северном посёлке, — вспоминал Владимир Марков. — Госпитали немецкие там размещались, а около них что-то вроде парка, бомбоубежище и монастырь. У нас же медсестры за ранеными ухаживали, а тут монашки этим занимались. Так вот немцы госпиталь эвакуировать не успели. У подножия Карпат дорога шла окружная, а вдоль неё танки были врыты по самые башни. В общем, обстреливалась эта местность хорошо, ни одна машина спокойно проехать не могла. Танки они так оставляли, потому что горючего у немцев уже практически не было, по той же причине и самолёты у них стали намного реже летать. Да и наша авиация уже хорошо действовала».
После Трнавы гвардейцы-миномётчики (к этому моменту Владимир Иванович уже точно был орудийным номером 3-й батареи 12-го гвардейского минометного Раздельненского Краснознаменного ордена Кутузова полка) через Братиславу направились на столицу Моравии Брно.
После Трнавы гвардейцы-миномётчики (к этому моменту Владимир Иванович уже точно был орудийным номером 3-й батареи 12-го гвардейского минометного Раздельненского Краснознаменного ордена Кутузова полка) через Братиславу направились на столицу Моравии Брно.
Владимир Марков в 1945 году с медалями «За отвагу» и «За победу над Германией»
Владимир Марков (внизу справа) с сослуживцами Николаем Добрыниным, Дмитрием Биценко и Леонидом Киркиным. Биробиджан, 1946 год
«Там перед городом есть селение Босоноги, вот там большие бои тоже были. Брно взяли быстро, немцы оттуда убежали, всё побросали. Мы оттуда пошли на Прагу, но и она уже была взята. Не доходя до Праги, мы остановились на отдых в лесу. До этого ни обмундирования не получали, ничего, в общем, а тут как раз всё и выдали во время стоянки. Мимо большак проходил. Некоторые ребята навеселе уже ехали и кричали: „Война кончилась!“ На это мы им отвечали: „Это для вас кончилась, а для нас ещё нет“. Но ночью и нам уже об окончании войны сообщили. Мы поднялись, митинг небольшой провели. Постреляли вверх. Но в это время самолёты ещё летали, бомбили. В общем, никак не похоже было, что война закончилась. А утром всё продолжилось. Бои шли ещё дня два или три. Пока ехали, видели аэродромы с самолетами, сожжёнными на них, на дорогах куча техники разбомбленной. Немцы же хотели к американцам прорваться, чтобы к ним в плен сдаться. Потом мы начали замечать, что по обе стороны дороги винтовки, стволом в землю воткнутые, торчат. А к обеду стали и немцы выходить небольшими группами из своих укрытий. Идут, на пилотках у них белый платок, у кого-то под мышкой буханочка хлеба. И старики среди них, и молодые совсем. Тут и чехи начали выходить, они-то и стали немцев конвоировать и собирать в одно место».
Медаль «За отвагу» Владимир Иванович получил за бои рядом с Брно «за то, что он 29 апреля 1945 года в районе Новы Двор под артиллерийским огнём противника, рискуя жизнью, подносил мины и заряжал установку». «После боя за Брно я и сам не знал, что награждён, — как бы стесняясь, признавался он. — Мне писарь сказал: „На тебя послали наградной лист“. А потом, уже после войны, мне эту медаль вручили в июне».
С окончанием боевых действий в Чехословакии был радушный приём от местных жителей. Это подтверждают и многочисленные фотографии массовых гуляний. «Население нас встречало хорошуще: закидывали цветами, кричали: „Хай живе маршал Сталин, хай живе Эдвард Бенеш!“» — вспоминал Владимир Марков.
После войны служба продолжилась. Кого-то демобилизовали сразу, но не моего деда. Ему предстояло переезжать из одной части в другую до 1949 года. «В Праге мы побыли, потом нас в одно поместье вывели, где мы месяц где-то простояли, а оттуда мы поехали в Перемышль, на Западную Украину (в 1945 году город был возвращён в состав Польши). Ну, а потом нас перебросили в Адыгею, в Майкоп, где корпус формировался. Там мы простояли до 1947 года», — продолжал он.
В том же году после сокращения вооруженных сил от корпуса осталась одна дивизия. «Мы тогда попали на восток, в Биробиджан. А оттуда нас отправили на Сахалин. Со мной были друзья Митя Луговкин, разведчик из Владимирской области, москвич Леша Киркин (он даже ко мне в гости приезжал). Командование у нас хорошее было, командиры грамотные, зря народ не губили. В 1948 год было постановление о демобилизации, но нас там еще до 1949 года продержали».
Медаль «За отвагу» Владимир Иванович получил за бои рядом с Брно «за то, что он 29 апреля 1945 года в районе Новы Двор под артиллерийским огнём противника, рискуя жизнью, подносил мины и заряжал установку». «После боя за Брно я и сам не знал, что награждён, — как бы стесняясь, признавался он. — Мне писарь сказал: „На тебя послали наградной лист“. А потом, уже после войны, мне эту медаль вручили в июне».
С окончанием боевых действий в Чехословакии был радушный приём от местных жителей. Это подтверждают и многочисленные фотографии массовых гуляний. «Население нас встречало хорошуще: закидывали цветами, кричали: „Хай живе маршал Сталин, хай живе Эдвард Бенеш!“» — вспоминал Владимир Марков.
После войны служба продолжилась. Кого-то демобилизовали сразу, но не моего деда. Ему предстояло переезжать из одной части в другую до 1949 года. «В Праге мы побыли, потом нас в одно поместье вывели, где мы месяц где-то простояли, а оттуда мы поехали в Перемышль, на Западную Украину (в 1945 году город был возвращён в состав Польши). Ну, а потом нас перебросили в Адыгею, в Майкоп, где корпус формировался. Там мы простояли до 1947 года», — продолжал он.
В том же году после сокращения вооруженных сил от корпуса осталась одна дивизия. «Мы тогда попали на восток, в Биробиджан. А оттуда нас отправили на Сахалин. Со мной были друзья Митя Луговкин, разведчик из Владимирской области, москвич Леша Киркин (он даже ко мне в гости приезжал). Командование у нас хорошее было, командиры грамотные, зря народ не губили. В 1948 год было постановление о демобилизации, но нас там еще до 1949 года продержали».
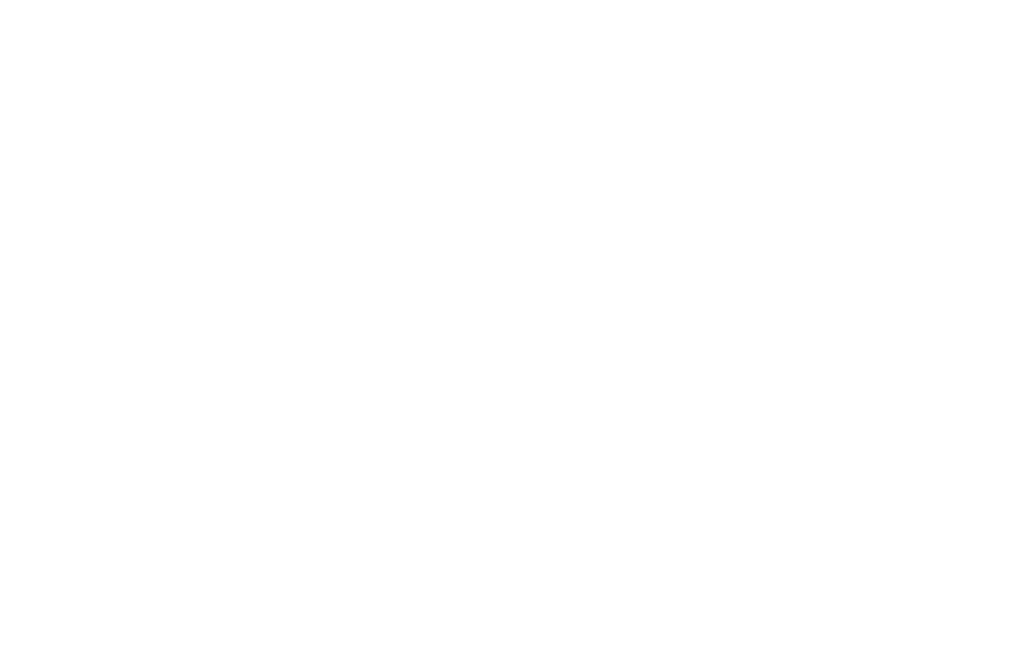
Владимир Марков после войны с матерью Дарьей
Только через три года после окончания войны Владимир Иванович вернулся домой. «В Холопово оставалась одна мать, отец погиб, братья работали, один в ФЗО в Ярославле учился. Я покрутился немного, делать было нечего, и я решил вернуться на завод в Рыбинск, где проработал до 1951 года. Потом приехал, женился и с хозяйкой в Рыбинске до 1953 года жили. Но город не очень нравился, и когда тут МТС строился, вернулся».
В деревне Редемское Брейтовского района, где мой дед построил собственный дом, он прожил до 85 лет, вырастил троих сыновей и обучил их плотницкому делу. Так как он работал в Прозоровской школе, его знала вся округа. Помнят Владимира Ивановича и сегодня.
В 2010 году я переехал в Калининград. С собой я взял один из трофеев деда — немецкую бритву, которой он брился до конца своей жизни.
Несмотря на довольно подробный рассказ, который смогла записать Надежда Папушкина, с семьёй Владимир Иванович о войне практически не разговаривал. Вероятно, не очень хотелось вспоминать — из 25 парней, призванных вместе с ним, уцелел лишь он один.
Я сам неоднократно допытывался, за что его наградили, но дед Володя постоянно отшучивался, мол, не помнил, за что. Правда, незадолго до смерти он рассказал о несколько ярких эпизодах о стрельбе по противнику из «Катюш» прямой наводкой, о том, как достал ту самую трофейную бритву, и о госпитале, брошенном бежавшими в панике нацистами.
В деревне Редемское Брейтовского района, где мой дед построил собственный дом, он прожил до 85 лет, вырастил троих сыновей и обучил их плотницкому делу. Так как он работал в Прозоровской школе, его знала вся округа. Помнят Владимира Ивановича и сегодня.
В 2010 году я переехал в Калининград. С собой я взял один из трофеев деда — немецкую бритву, которой он брился до конца своей жизни.
Несмотря на довольно подробный рассказ, который смогла записать Надежда Папушкина, с семьёй Владимир Иванович о войне практически не разговаривал. Вероятно, не очень хотелось вспоминать — из 25 парней, призванных вместе с ним, уцелел лишь он один.
Я сам неоднократно допытывался, за что его наградили, но дед Володя постоянно отшучивался, мол, не помнил, за что. Правда, незадолго до смерти он рассказал о несколько ярких эпизодах о стрельбе по противнику из «Катюш» прямой наводкой, о том, как достал ту самую трофейную бритву, и о госпитале, брошенном бежавшими в панике нацистами.
Из-под Курска до западной границы СССР
Журналист Анна Горбунова:
— Шитиков Иван Прокофьевич — мой прадед по материнской линии. Он родился 8 июля 1926 г. в селе Малые Кулики Моршанского района Тамбовской области. Семья, в которой он родился и воспитывался, была большим крестьянским семейством: у прадеда было пять братьев и две сестры.
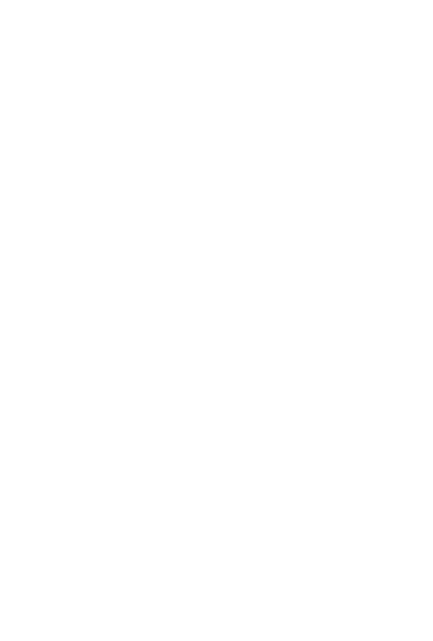
Когда началась Великая Отечественная Война, первыми на фронт ушли отец Ивана и его старший брат Николай. Последний служил офицером в танковых войсках. Оба — отец и старший сын — погибли в начале войны. Об обстоятельствах их гибели и месте захоронения в нашей семье долгое время было ничего неизвестно. Теперь же удалось немного пролить свет на судьбу брата моего прадеда Ивана — Николая Прокофьевича Шитикова. В двух именных списках безвозвратных потерь начальствующего состава за период с 10 по 20 августа 1942 года и с 10 по 31 августа того же года значилось, что Николай был членом ВЛКСМ, имел звание лейтенанта и являлся командиром взвода 68-й танковой бригады 61-й армии Западного Фронта.
Убит он был 11 августа 1942 года в Ульяновском районе Орловской области на высоте 250,2 м. В день смерти Николай выполнял боевое задание по обороне ещё не захваченных немцами населенных пунктов Госьково, Озерна и Громоздово близ реки Вытебеть в составе 68-й танковой бригады, поджидавшей противника в танковой засаде.
Убит он был 11 августа 1942 года в Ульяновском районе Орловской области на высоте 250,2 м. В день смерти Николай выполнял боевое задание по обороне ещё не захваченных немцами населенных пунктов Госьково, Озерна и Громоздово близ реки Вытебеть в составе 68-й танковой бригады, поджидавшей противника в танковой засаде.
Вот сведения, которые нам удалось раздобыть о том дне в книге Ф. С. Гнездилова «На высотах мужества»:
«Утром 11 августа по войскам соседней с нами 61-й армии, а затем и по левому флангу нашей 16-й армии гитлеровцы нанесли сильный удар... Им удалось прорвать оборону наших соседей в направлении Козельска и продвинуться на 20–25 километров... Командование 16-й армии приказало нашему полку вести воздушную разведку непрерывно. Командование приказало вести воздушную разведку непрерывно. Важно было своевременно вскрыть подход вражеских резервов... А в это время, усиливая удары, враг форсированным маршем подбрасывал к фронту свежие войска...»
Первичное место захоронения Николая Прокофьевича было записано в архивном документе как Орловская область, Ульяновский район, или кратко — высота 250,2м. Однако в ходе исследования выяснилось, что Николай был перезахоронен под Тулой в городе Белев.
«Утром 11 августа по войскам соседней с нами 61-й армии, а затем и по левому флангу нашей 16-й армии гитлеровцы нанесли сильный удар... Им удалось прорвать оборону наших соседей в направлении Козельска и продвинуться на 20–25 километров... Командование 16-й армии приказало нашему полку вести воздушную разведку непрерывно. Командование приказало вести воздушную разведку непрерывно. Важно было своевременно вскрыть подход вражеских резервов... А в это время, усиливая удары, враг форсированным маршем подбрасывал к фронту свежие войска...»
Первичное место захоронения Николая Прокофьевича было записано в архивном документе как Орловская область, Ульяновский район, или кратко — высота 250,2м. Однако в ходе исследования выяснилось, что Николай был перезахоронен под Тулой в городе Белев.
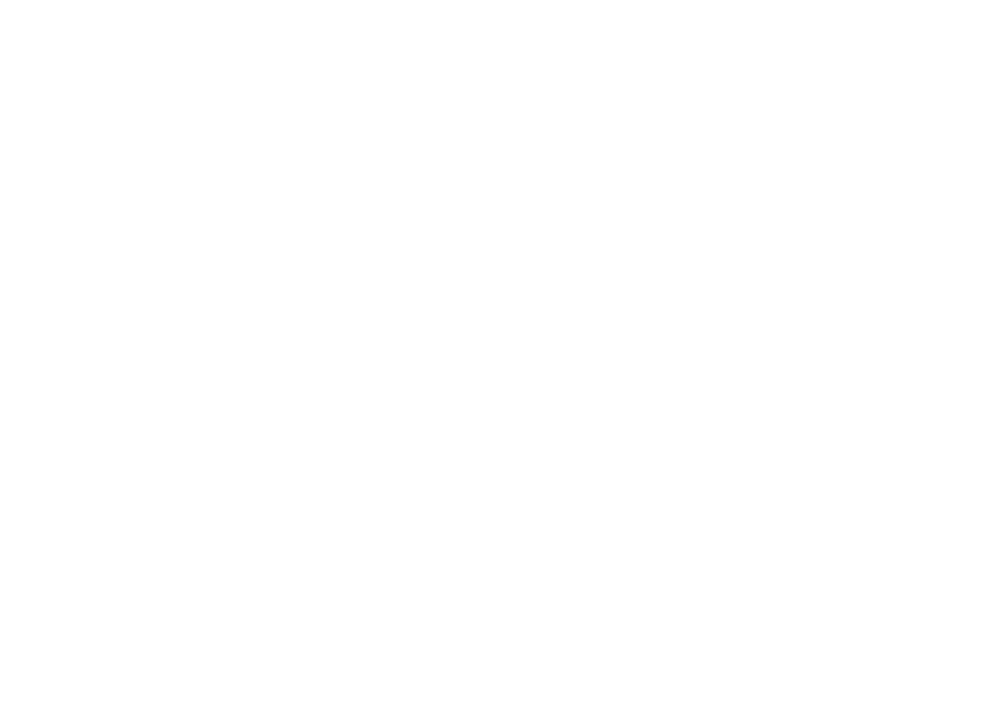
Когда пришла похоронка о смерти Николая, мой прадед Иван Прокофьевич Шитиков уже работал в родном колхозе. В 1943 г. ему исполнилось 17 лет, его призвали в армию. После «курса молодого бойца», который длился в то время примерно неделю – месяц, Иван попал в маршевую роту стрелковой части, ушедшей на пополнение действующей армии. Известно, что уже на 23 день на фронте Иван был в городе Сокол, что находится в Вологодской области.
Так как Курская битва охватывает период с 5 июля по 23 августа 1943 года, прадед «захватил» часть этой битвы и сам принимал участие в ее сражениях.
С боями прадед прошел из-под Курска до западной границы Советского Союза, где и был оставлен для службы в пограничных войсках в районе города Славутич — в городе Колымый. Часть, в которой он воевал, двинулась дальше — на Берлин. Бойцов из районов, не оккупированных фашистами, считали более надежными. Именно поэтому Ивану и многим его товарищам и была доверена охрана Государственной границы Советского Союза. Подтверждением данного факта являются письмо и фотография Ивана Прокофьевича.
Так как Курская битва охватывает период с 5 июля по 23 августа 1943 года, прадед «захватил» часть этой битвы и сам принимал участие в ее сражениях.
С боями прадед прошел из-под Курска до западной границы Советского Союза, где и был оставлен для службы в пограничных войсках в районе города Славутич — в городе Колымый. Часть, в которой он воевал, двинулась дальше — на Берлин. Бойцов из районов, не оккупированных фашистами, считали более надежными. Именно поэтому Ивану и многим его товарищам и была доверена охрана Государственной границы Советского Союза. Подтверждением данного факта являются письмо и фотография Ивана Прокофьевича.
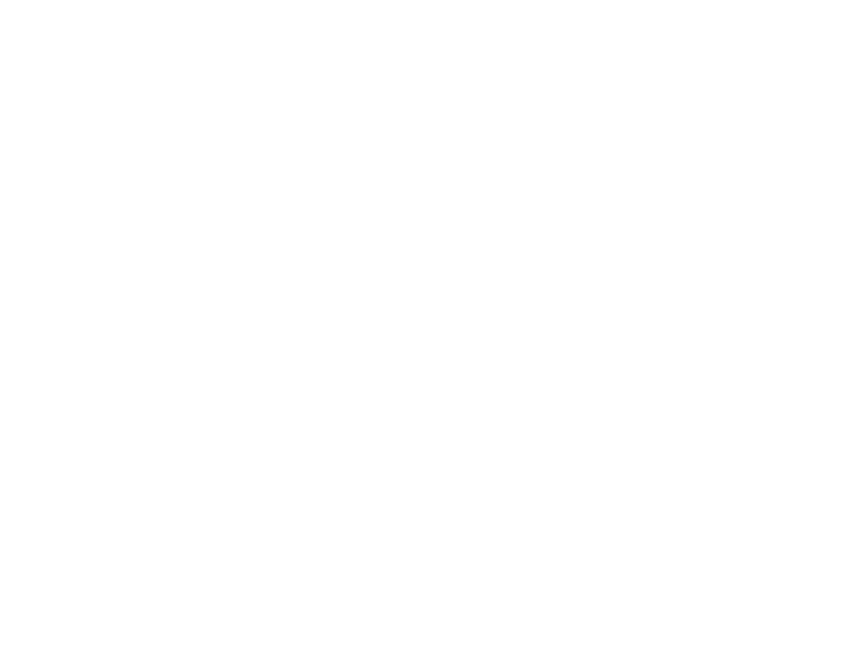
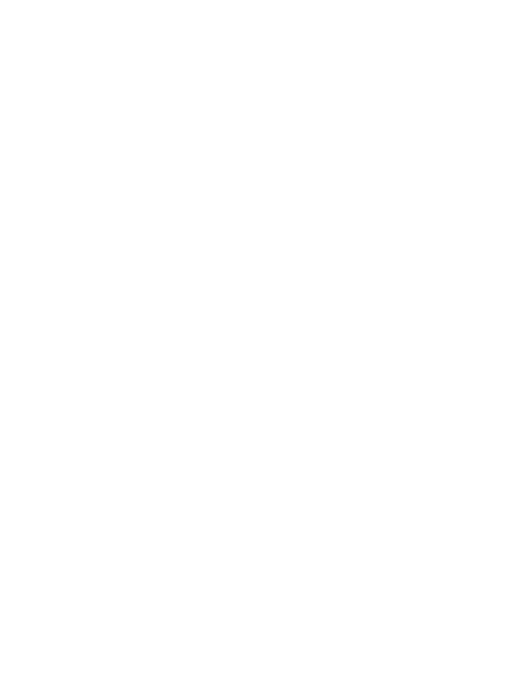
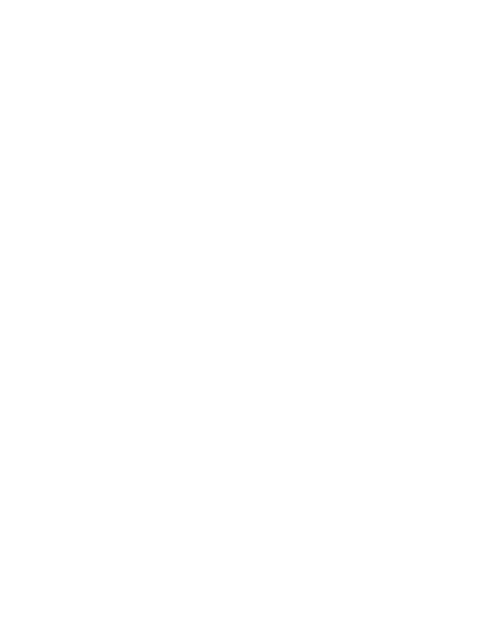
Прадед мало рассказывал о войне, однако он неоднократно упоминал, что война — это страшно. Он рассказывал моей маме о том, как попав в первый бой, он шептал заветное слово «мама», как старшие товарищи прикрывали его собой во время бомбежек, не давали ему выглянуть из окопов, тем самым спасая ему жизнь. Но несмотря на это дважды за время войны он был ранен осколками от снарядов — один раз в лицо — и другой — в руку. Осколок попал в переносицу, и так как раненых было много, бойцов пытались спасти быстро, врачи даже были готовы оставить увечье на лице молодого бойца и ампутировать ему нос. Но за него вступилась молодая медсестра, благодаря ей у него остался всего лишь небольшой шрамик, который спустя время перестал быть заметным для «непосвященных».
От последнего ранения у прадеда также осталась отметина на всю жизнь. Дело в том, что на кисти левой руки у него была маленькая наколка — татуировка, — его имя — «ВАНЯ». Осколком последняя буква была сбита, и поэтому всю жизнь у моего прадеда на руке около большого пальца оставалась надпись «ВАН», которая вызывала интерес и расспросы у всех, кто ее видел.
Во время службы на границе прадед участвовал в ликвидации бандитских отрядов Бандеры. Окончание войны Иван встретил на западной границе СССР, а в 1946 году был переведен служить в Грузию.
От последнего ранения у прадеда также осталась отметина на всю жизнь. Дело в том, что на кисти левой руки у него была маленькая наколка — татуировка, — его имя — «ВАНЯ». Осколком последняя буква была сбита, и поэтому всю жизнь у моего прадеда на руке около большого пальца оставалась надпись «ВАН», которая вызывала интерес и расспросы у всех, кто ее видел.
Во время службы на границе прадед участвовал в ликвидации бандитских отрядов Бандеры. Окончание войны Иван встретил на западной границе СССР, а в 1946 году был переведен служить в Грузию.
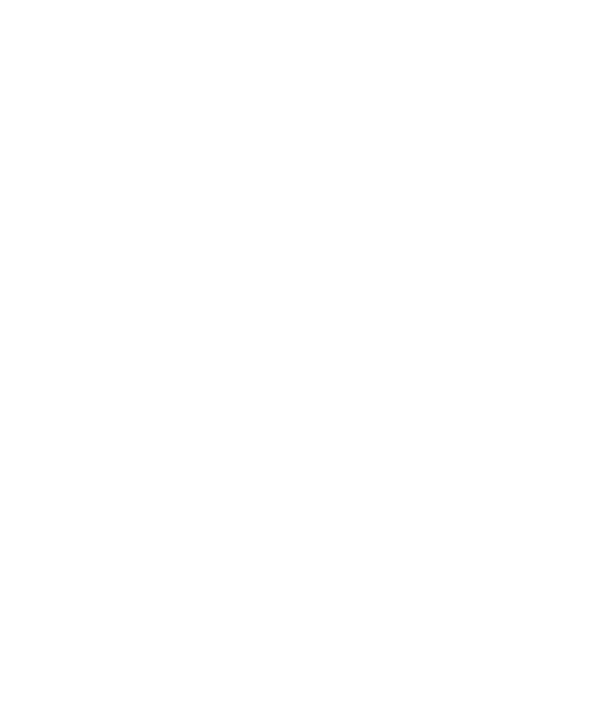
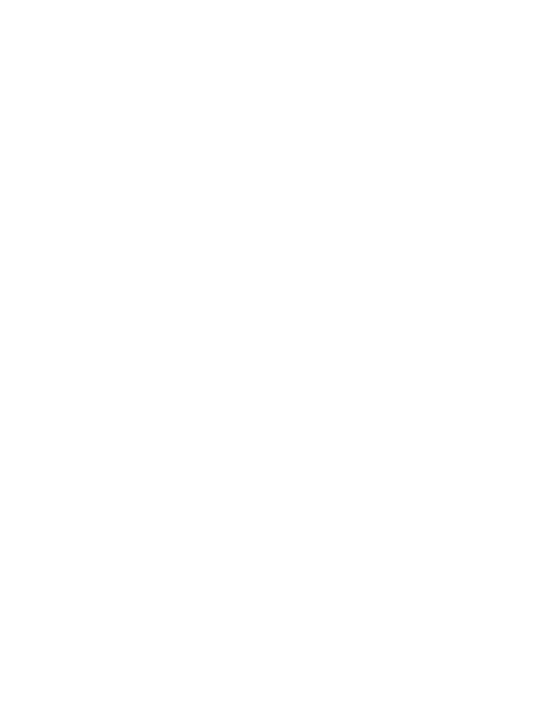
Интересен и тот факт биографии моего прадеда Ивана Прокофьевича, что он совместно с сослуживцами-однополчанами был подготовлен к отправке на службу в США. При этом все, кто был направлен на морское судно, отправлявшееся в Америку, прошли отбор по определенным критериям: рост — не ниже 180 см, голубые глаза, светлые волосы, то есть они должны были обладать чисто славянской внешностью. Для отправки было даже выдано новое обмундирование и бельё. Однако после погрузки на корабль и отплытия судно по неизвестным причинам было возвращено. Также им была возвращена их прежняя форма, и Иван со своими сослуживцами-однополчанами продолжил службу на Родине.
В 1951 году прадед вернулся на свою малую родину — в Моршанский район Тамбовской области, где и встретил свою будущую жену Прасковью Ивановну. Здесь он вместе с ней построил дом, посадил большой яблоневый сад и воспитал двоих сыновей — Виктора и Геннадия. Последний — мой дед — посвятил свою жизнь военной службе и ушел в отставку подполковником.
В 1951 году прадед вернулся на свою малую родину — в Моршанский район Тамбовской области, где и встретил свою будущую жену Прасковью Ивановну. Здесь он вместе с ней построил дом, посадил большой яблоневый сад и воспитал двоих сыновей — Виктора и Геннадия. Последний — мой дед — посвятил свою жизнь военной службе и ушел в отставку подполковником.
На границе в Западной Украине одновременно с Шитиковым Иваном Прокофьевичем, только во Львовской области, служил и другой мой прадед — Горбунов Павел Герасимович, 1926 года рождения.
Закончив обучение в школе в Сосновском районе Тамбовской области, Павел, как и Иван, в 1943 году был призван на фронт в семнадцатилетнем возрасте. Дойдя до Западной границы Советского Союза, он также был оставлен там как кавалерист-пограничник: с 1944 года он защищал нашу Родину верхом на коне. В нашей семье на слуху рассказ прадеда о том, как он с двумя товарищами, попав в окружение бандеровцев, сидел в воронке от разорвавшегося снаряда, держа в руке гранату, но приготовленную не для бандитов, а для себя. В последний миг на помощь подошло подкрепление...
Прадед Павел Герасимович вернулся домой в 1951 году, устроился на работу в колхоз, став при этом бригадиром, трактористом и заведующим молочной фермой, женился на Яковлевой Лидии Владимировне, родившей ему пятерых сыновей, одним из которых является мой дед Александр Павлович, проживающий в настоящее время в поселке Центральный Моршанского района.
Отец Павла — мой прапрадед Горбунов Герасим Антонович, 1900 года рождения, к началу Великой Отечественной войны был уже «опытным» солдатом, так как принимал участие в Гражданской войне на стороне большевистской власти (был членом ВКП (б)) в составе 1-й конной армии С. М. Будённого.
Закончив обучение в школе в Сосновском районе Тамбовской области, Павел, как и Иван, в 1943 году был призван на фронт в семнадцатилетнем возрасте. Дойдя до Западной границы Советского Союза, он также был оставлен там как кавалерист-пограничник: с 1944 года он защищал нашу Родину верхом на коне. В нашей семье на слуху рассказ прадеда о том, как он с двумя товарищами, попав в окружение бандеровцев, сидел в воронке от разорвавшегося снаряда, держа в руке гранату, но приготовленную не для бандитов, а для себя. В последний миг на помощь подошло подкрепление...
Прадед Павел Герасимович вернулся домой в 1951 году, устроился на работу в колхоз, став при этом бригадиром, трактористом и заведующим молочной фермой, женился на Яковлевой Лидии Владимировне, родившей ему пятерых сыновей, одним из которых является мой дед Александр Павлович, проживающий в настоящее время в поселке Центральный Моршанского района.
Отец Павла — мой прапрадед Горбунов Герасим Антонович, 1900 года рождения, к началу Великой Отечественной войны был уже «опытным» солдатом, так как принимал участие в Гражданской войне на стороне большевистской власти (был членом ВКП (б)) в составе 1-й конной армии С. М. Будённого.
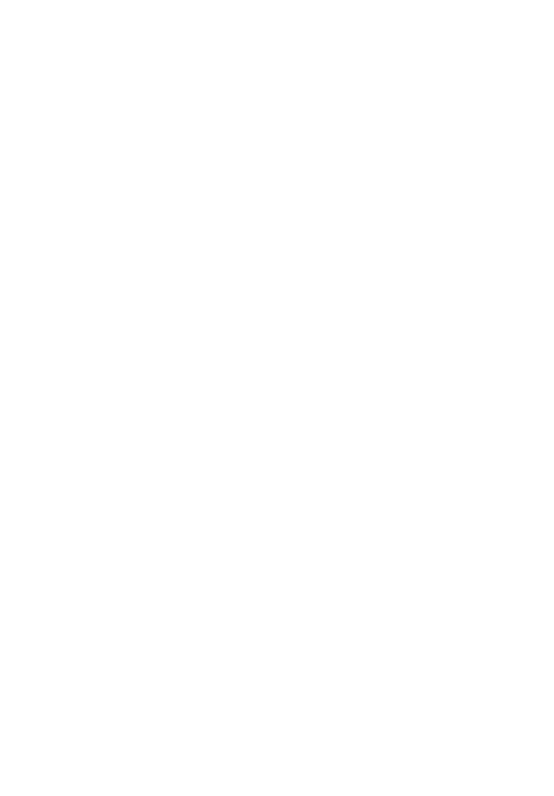
Он снова был призван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии 15 сентября 1941 года, то есть в самом начале Великой Отечественной Войны, проходил службу на Волховском Фронте, где получил звание старшины. В ходе Любанской операции 1941 года по деблокированию Ленинграда Красной Армии удалось прорвать фашистскую оборону около Мясного бора — деревни Новгородской области, которая вошла в историю Великой Отечественной войны как «Долина смерти», месте, по мнению многих людей, таинственном и действительно пугающем, где во время войны развернулись ожесточённые бои, в которых принимал участие Герасим Антонович. 52-я Армия, в составе которой воевал мой прапрадед, не была достаточно укомплектована и ощущала нехватку как в артиллерии, так и в миномётах и автоматическом оружии, а подкрепление на тот момент ещё не прибыло, в связи с чем русские солдаты потерпели большие потери, погибло огромное количество бойцов, многие были ранены. В наградном документе прапрадеда говорится о том, что 15 июля 1942 года в борьбе с немецкими захватчиками он в составе 52-й Армии 225-й стрелковой дивизии 174-го стрелкового полка был легко ранен под Мясным бором, а «по излечении в госпитале был послан в эту же часть, где был вторично тяжело ранен 31 августа 1942 года».
Оправившись и вылечившись, прапрадед был переведен в 310 стрелковую Новгородскую ордена Ленина Краснознамённую дивизию, где до февраля 1943 года принимал участие в боях в районе Лынка, названном Киришским плацдармом. Однако 21 марта 1943 года Герасим Антонович получил ранение осколком, который прошел через глазницу и застрял в головном мозге, лишив прапрадеда одного глаза. Но и после этого Герасим Антонович не оставил дело освобождения своей Родины, продолжил службу в должности начальника специальной машины АКС-2 отделения материально-технического обеспечения фронтовой технической роты № 3. В августе 1944 года командир данной фронтовой технической роты старший лейтенант-техник Чертков написал о прапрадеде в наградном документе следующие слова, характеризующие профессионализм Герасима Антоновича:
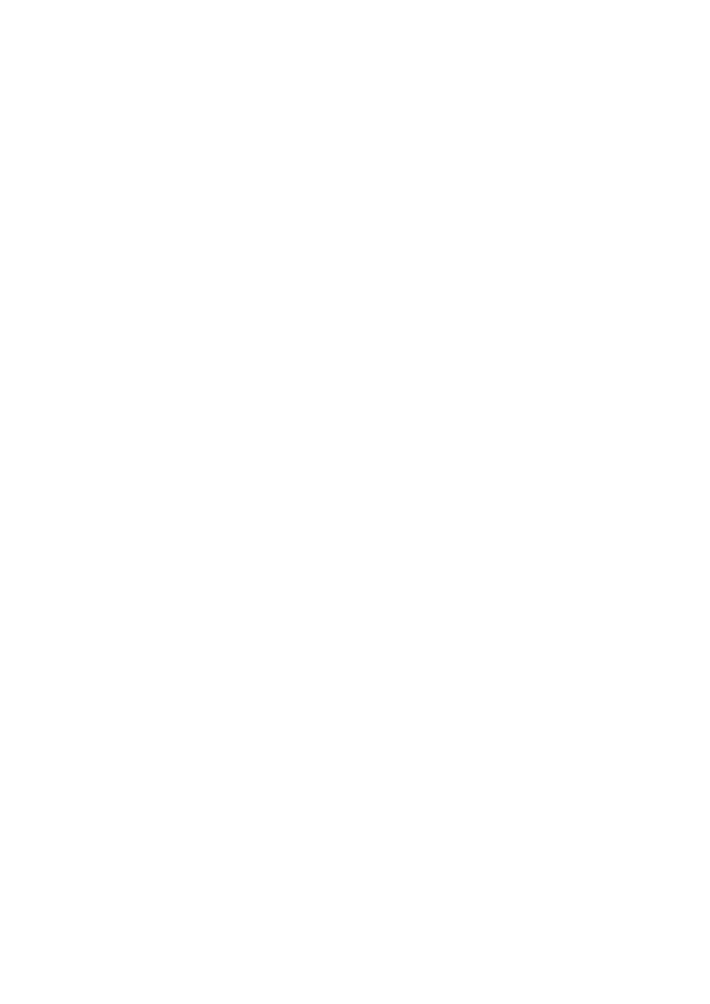
«Все приказы и распоряжения выполняет честно и добросовестно, требователен к себе и подчиненным. Отлично овладел своей специальностью и, находясь в настоящее время на выполнении боевой задачи по обеспечению дымопуска сжатым воздухом, отлично справляется с поставленной задачей».
После войны Горбунов Герасим Антонович вернулся на Родину, где в то время требовались рабочие руки, поскольку нашей стране, ослабленной и разрушенной за время страшной войны, было необходимо восстанавливать и налаживать мирную жизнь. Он работал бригадиром, впоследствии став председателем одного из колхозов Дельной Дубравы Сосновского района, и вместе со своей женой Матроной Ивановной дожидался ещё не вернувшегося со службы сына.